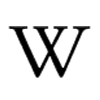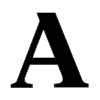Я не являюсь сторонницей психоаналитического объяснения мифов и весьма критически настроена к попыткам измерить великое малым, но не могу обойти вниманием юнгианского аналитика, на которого уже не раз ссылалась. Рафаэль Лопес-Педраза, как видимо, наделен интуицией, поэтому в его текстах периодически встречаются неожиданные прозрения: к примеру, рассматривая психическую болезнь как следствие подавления, он указывает на то, что «в нашей жизни наиболее подавлены языческие боги и формы жизни, ими представленные».
Это подавление, вытеснение, при доминации противоположной мировоззреческой модели, рано или поздно приводит к тому, что Гераклит назвал «энантиодромией». Энантиодромия – это закон, согласно которому все сущее рано или поздно переходит в свою противоположность. Когда падает последняя песчинка, песочные часы переворачиваются. Реставрация древних культов, стремление к возрождению античных идеалов, возвращение к вере предков, большое внимание к дохристианскому миру в целом – говорят о том, что «культуральная тревога» продолжает воздействовать не только на современного западного человека, но и на нас. Вытесненные боги призывают своих жрецов. Если вы помните, то эпиграфом к первой части своего романа “Мальпертюи” Жан Рэ выбрал цитату Натаниэля Готорна: “Хоть вы и воздвигаете церкви, строите вдоль каждой дороги часовни и ставите кресты, вы не сможете помешать богам древней Фессалии вновь и вновь воскресать в песнях поэтов и книгах ученых”. Олимпийские боги, вопреки абсолютной доминации монотеистического мировоззрения, всегда возвращались. Их священные образы, дышащие спокойным величием, увековечены мастерами итальянского Возрождения; они лишали покоя немецких романтиков и французских символистов; дар боговдохновения познал и Гельдерлин, и Рильке, и Жан Дельвиль, и Сар Пеладан; греческие боги открывались Шеллингу и Ницше, Вальтеру Отто и Карлу Кереньи, Фридриху Юнгеру и Юлиусу Эволе. «И все боги смеялись тогда, качаясь на своих тронах, и восклицали: «Разве не в том божественность, что существуют боги, а не Бог!» — так писал Фридрих Ницше. Вошедший в чертоги безумия Ницше, стал подписывать свои письма именем “Дионис Распятый”. Возможно, ему удалось найти способ избавления от культуральной тревоги, как это сделали мыслители эпохи Возрождения. Мучительный и загадочный образ “Диониса Распятого” очаровал русского эллина Вячеслава Иванова, создавшего затем христо-дионисийский миф, ставший одним из основных мифов Серебряного века.
Я не задала главный вопрос: если с приходом христианства современный человек столкнулся с “культуральной тревогой”, выражающей себя в конфликте между язычеством и монотеизмом, то с каким внутренним конфликтом мог столкнуться античный грек? Между чем и чем находился посвященный в Элевсинские мистерии? Что могло тревожить читателя не дошедшей до нас дионисийской тетралогии Эсхила? Грек, не знавший конфликта Олимпа и Голгофы, знал конфликт Олимпа и Офриса. Этот конфликт был намного ужаснее, по той причине, что речь здесь идет о непримиримом противостоянии олимпийских богов и титанов. И Фридрих Юнгер совершенно верно замечает, что как только в человеке начинает доминировать титаническое начало, он отвращается от Аполлона и Зевса, Диониса и Пана, фактически превращаясь в их врага. Титан, в отличие от бога или героя, всегда претерпевает тяжесть, находится под давлением и несет некое бремя. Склоняясь под грузом собственной муки, титан врастает в землю, которая его породила. Ему не может быть известно, что такое оторваться от земли, взмахнуть крыльями, преодолев привычное тяготение. Юнгер пишет, что «в царстве Кроноса образуется равновесие, которое неспособно к изменению или развитию». Мир титанов не знает μεταμόρφωσις, без которой невозможно представить себе мир богов. Титаны ведают равновесие как застывание, окаменение, неизменность, потому титаническое всегда выступает против любого развития, движения, в особенности “окрыляющего” движения, движения, направленного от Геи к Урану, от хтонического к ураническому. Юнгер позволяет себе быть слишком откровенным и доверяет читателю “Греческих мифов” то, что он, скорее всего, пропустит, не придав значения словам, которые лучше было бы произносить шепотом: “Человек, которому противостоят титаны, обречен на гибель, он становится жертвой катастрофы”. Юнгер не поясняет, какому именно человеку противостоят титаны, поскольку это должно быть ясно без уточнений: титаны будут пытаться уничтожить человека, чья божественная частица (“частица Диониса”) полностью подчинила себе титаническую составляющую нашего существа. Евгений Головин писал, что на девять десятых у нас плоть титанов. Только единицы решаются осуществить опасное превращение этого свинца в золото. Речь идет об онтологическом повороте, о неотвратимом выходе за пределы человеческого существования и человеческих возможностей, о готовности претерпеть болезненное становление полубогом, об открытом противостоянии титанам; о том, что на карту ставится жизнь, не следует даже говорить, поскольку утрата физического компотента в случае гибельного исхода – ничто по сравнению с тем, что придется обнаружить после очередного перехода. Титаны преследуют человека, сделавшего свой выбор, так же, как они преследовали Диониса. Титаны стремятся разорвать человека, устремившегося к богам Олимпа, поскольку, сделав свой выбор, он осознанно вошел в пространство Титаномахии как вечно свершаемой, над-исторической битвы.
Титаномахия – это ключ к пониманию всего греческого мира, это нерв самой парадигмы греческого мышления. Когда я говорю, что сквозь Титаномахию становится понятна судьба западноевропейской цивилизации, суть приговора “бог умер”, споры о “конце философии” и сумерках богов, а также грядущее возрождение русской культуры, я нисколько не преувеличиваю.
Но не только этот внутренний конфликт испытывал древний грек. Задолго до появления христианства в самой парадигме греческого мышления была прочерчена граница между мировоззренческими моделями ранних греческих мыслителей (“досократики” или лучше “доплатоники”, как называет их Ницше) и учением Сократа, изложенном в сочинениях его ученика Платона. Мир “до Сократа” и мир “после Сократа” – абсолютно разные миры. Но, рассуждая о “досократическом периоде” и наследии досократиков, я хотела бы оговориться, что речь здесь идет не о хронологическом аспекте, а скорее о парадигме мышления: досократической (предфилософская традиция) и сократической (или платонической), находящейся под покровительством Аполлона. Ницше, неустанно воюющий с Сократом и Платоном, как никто другой ощущал пропасть, которая разверзлась, между тео-космогонической поэмой Гесиода, огненными изречениями Гераклита, орфическими гимнами и жреческими воззрениями божественного Эмпедокла – с одной стороны, и диалектикой Платона и сократическим рационализмом – с другой. Он пишет: “Настоящие философы у греков – те, что были до Сократа: с появлением Сократа что-то меняется. Все они – люди благородного звания, державшиеся в стороне от народа и обычая, бывалые, серьезные до угрюмости, с пытливо-медлительным взором, не чуждые государственным делам и дипломатии. Они предвосхитили все великие воззрения на вещи, найденные мудрецами: они сами были такими воззрениями, они приводили в систему себя самих. Никто не дает более полного представления о греческом духе, как этот внезапно народившийся урожай типов, как эта непроизвольно разразившаяся полнота великих возможностей философского идеала”. Ницше нападает на Сократа, ставя ему в упрек неспособность заглянуть в дионисийские глубины (он прямо называет его “противником Диониса”), его ученика Платона он видит как мыслителя “смешанного типа”, весьма отличного от монолитного типа мыслителя, к которому принадлежали такие мудрецы, как Эмпедокл, Анаксагор, Гераклит, Парменид, Анаксимандр и другие. Для Ницше есть “республика гениев” (доплатоники) и Платон, “инстинктивный антиэллин”, воплощение негреческого типа мыслителя. Ницше совершенно верно считает Платона “христианским до христианства”, — невозможно отрицать, что именно платоническая парадигма легла в основу христианского учения. Ницше отвергал как платонизм, так и христианство из-за их структурного метафизического сходства, и оставался верным предфилософской традиции, где его главным учителем был Гераклит. Он восхищался “республикой гениев”, в которой философ был магом, жрецом и королем, где торжествовало тождество философии и жизни, где миф был словом о богах и героях. “Оригинальные воззрения этих философов есть высшее и чистейшее, что когда-либо было достигнуто. – Пишет Ницше. – Сами эти мужи представляют собой форменное воплощение философии в различных ее формах. Вопрос: чем философ выделяется среди эллинов классической эпохи? Начиная с Платона, дать на это ответ все труднее. Тогда появилось сословие ученых, в которое входили и философы. Предшествующие ступени: жрец и певец. Мудрецы, которых назначил дельфийский оракул, живые катехизисы”.
Нужно отметить, что когда мы говорим о внутреннем конфликте между язычеством и христианством, нам следует уточнять, о каком именно язычестве идет речь, поскольку между платонизмом и христианством никакого конфликта быть не может (как раз по этой причине в эпоху Возрождения вопрос о “культуральной тревоге” не ставился вообще; если бы в тот период произошло вторжение предфилософской традиции в ренессансную философию и Марсилио Фичино стал переводить не “Диалоги” Платона, а фрагменты Ферекида или писать комментарии к учению Эмпедокла, мы имели бы иную историю западноевропейской философии, которая предстала бы перед нами отнюдь не как “заметки на полях сочинений Платона”). Острый конфликт назревает исключительно между христианским монотеизмом и доплатоновской парадигмой греческого мышления. Это упускает как Рафаэль Лопес-Педраза, так и Доддс в своей книге “Язычник и христианин в смутное время”.
Мы можем предположить, в какой непростой ситуации оказывался мыслитель, ищущий точки соприкосновения между мудростью мистериальных культов и платоническим учением, как абсолютным триумфом Логоса Аполлона. Культуральный конфликт античного грека значительно глубже и опаснее, чем переживаемый нами. Он был свидетелем того, как ускользали боги, сначала превращаясь в идеи, а затем исчезая под натиском единого Бога. С вопроса о Едином боге начинается метафизический раскол. Никто более не спрашивает о Начале, из которого появился Единый. Теперь спрашивают лишь о том, как из Единого возникло многое. “Единый Бог проглатывает всех остальных: Пан умер, ибо победил монотеизм. Подобно Кроносу, монотеизм питался проглоченными им богами, — об этом пишет Д.Хиллман.
Так Единый постепенно становится единственным и заменяет собою Начало. И наша задача – снова его найти.
Н. Сперанская