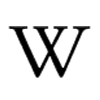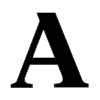Статья Эволы, написанная спустя месяц после неожиданной кончины О. Шпенглера. «Vita Italiana», июнь 1936 года.
Те, кто сейчас, после его смерти, хотел бы добросовестно оценить деятельность Освальда Шпенглера и исследовать значение его творчества для современности, оказались бы в замешательстве.
Если это замешательство не ощущается, и если по случаю смерти Шпенглера в Германии и Италии уже появился ряд статей, пронизанных обычной самоуверенностью воинствующих журналистов, то причина этого кроется в том, что, по сути, никто, или почти никто, сегодня не обладает необходимой точкой зрения, чтобы объективно разглядеть позитивные и негативные позиции Шпенглера, отсылая их к прочной системе принципов. Столкнувшись со Шпенглером существовала и, более того, до сих пор существует та позиция, столь же гнусная, сколь, к сожалению, повсеместно распространенная в наше время, которая состоит в том, чтобы рассматривать каждую систему идей как «личное творение», как философскую конструкцию, обусловленную гением, более или менее искусным, просвещенным и оригинальным, отдельного человека. Несомненно, что для подавляющего большинства современных «мыслителей» такая установка, в конце концов, адекватна, поскольку у них почти все сводится – именно и только – к сугубо индивидуальной конструкции с логическими, диалектическими и псевдонаучными оболочками. Однако Шпенглер – один из немногих современных авторов, к которым это внутренне неверно.
Между тем, работы Шпенглера представляют реальный интерес, поскольку часто выражают ощущение чего-то реального, смутную интуицию положения вещей, которое никак не обусловлено «интерпретациями» отдельного человека, даже если оно смешивается, переносится и искажается всевозможными способами. Можно почти с уверенностью сказать, что Шпенглер был, пожалуй, первым, кто не осознал этого – это видно из его собственных заявлений об источниках вдохновения для его самых важных взглядов. Но это нисколько не умаляет истинности сказанного: слишком много случаев, когда опытный глаз распознает, что авторы, которые своей мыслью вызвали наибольший резонанс в эпоху, хотя и намеревались развить самостоятельный и личный порядок мысли, в действительности подчинялись смутным внушениям или черпали свой первый импульс из полусознательного восприятия высших принципов и законов.
Главная заслуга Шпенглера, несомненно, состоит в том, что он внес энергичный вклад в разрушение прогрессивного и эволюционного мифа, этой фикции современного рационалистического и демократического менталитета. Цивилизация не развивается в непрерывном ритме к лучшему; цивилизация существует не как что-то однородное, но цивилизации действуют как отдельные, самостоятельные организмы, каждый из которых имеет свой рассвет, свое развитие, свой упадок. Между этими цивилизациями могут существовать отношения аналогии, но не преемственности. Нет моста, ведущего линейно от одного к другому. В частности, Западная цивилизация ни в коем случае не есть, как считалось, последним словом в якобы едином поступательном движении мировой истории, а является скорее цивилизацией – ее характеристики действительно являются характеристиками сумеречной цивилизации, цивилизации, движущейся к своему окончательному распаду, после чего начнется абсолютно новый цикл, с новыми расами, новыми науками и новыми истинами.
Это, как мы знаем, центральная точка зрения главного и самого известного произведения Шпенглера: точка зрения, которая, однако, в той мере, в какой она обоснована, никоим образом не сводится к личной философской позиции. В той или иной форме древний мир всегда признавал, что «циклические законы» управляют развитием народов и цивилизаций: он знал об исчезнувших великих цивилизациях, от которых часто даже не осталось названия, и которые он вовсе не считал «эволюционными степенями», оставленными человечеством того времени; он игнорировал прогрессивный миф и признавал, что действительный смысл истории — это, с точки зрения сущностной стороны, то есть духовной стороны, инволюция, «падение». Бесполезно воспроизводить здесь, хотя и в кратком изложении, все то, что в других местах, в плане источников и свидетельств всех видов, мы собрали для демонстрации «традиционности» этих взглядов, присутствующих с загадочным и безличным совпадением даже деталей в учениях различных древних народов. И если в таких учениях «грядущий мир» представлялся как «темный век» (Индия), или «железный век» (Греция), или «век грязи, смешанной со сталью» (Иран), и так далее, это, очевидно, точный эквивалент знаменитого «заката Запада», о котором говорит Шпенглер и в котором многие хотели увидеть не факт, а отражение одного из современных духовных кризисов.
Разница, которая затем также соответствует фундаментальному недостатку концепции Шпенглера, заключается в том, что этот автор не подозревал о метафизической природе циклических законов цивилизации: он представлял эти законы как натуралистический и детерминистский факт, как масштабное воспроизведение одной и той же невидимой судьбы, благодаря которой даже растения и животные, без участия реальной воли, рождаются, развиваются и фатально умирают. В связи с этим у Шпенглера не было настоящего понимания духовных и трансцендентных элементов, лежащих в основе каждой великой цивилизации: он остается, в конце концов, в светской концепции, находясь под сильным влиянием чисто современных взглядов, таких как взгляды «философии жизни», «фаустовского» активизма, ницшеанского аристократического селекционизма. По этой причине даже его «морфология» цивилизаций оказывается ущербной, вернее, она уже приобретает смысл интерпретации и «конструкции», которой с равным правом можно противопоставить многие другие: таков характер различных «степеней развития», аналогически соответствующих, которые Шпенглер стремится найти с помощью хитроумных сравнений в каждом из циклов цивилизаций, в индусской, греческой, римской, арабской и так далее, вплоть до той, которую он называет «западной» или «фаустовской».
Если перейти к главному и не вдаваться в детали, то Шпенглер не понимал, что помимо плюрализма цивилизаций и стадий их развития существует дуализм форм цивилизации. Он коснулся этой концепции, когда противопоставил «утренние цивилизации» «сумеречным цивилизациям», а «культуру» – «цивилизации», но он не понял истинной сути первой. То, что он называет оригинальным, – это нечто весьма узкое, нечто уже отделенное от истинного духовного творческого принципа великих восходящих фаз цивилизации.
Концепция «утренних» цивилизаций у Шпенглера, как мы уже говорили, аристократическая, в ницшеанском стиле – идеал человека как великолепного хищного грабителя и жесткого правителя остается заявленной верой Шпенглера, намеки на духовный цикл у него эпизодичны и несовершенны, а также запятнаны протестантскими предрассудками. Привязанность к земле и преданность подневольного класса, вотчины, замки, близость местных традиций и корпоративных сообществ, органично сформулированное государство, верховное право «расы», понимаемое не в биологическом смысле, а в смысле интимного поведения, интимной мужественности и неукротимой души, – вот именно на этом фоне Шпенглер видит жизнь народов в фазе «культуры» (Kultur), еще далекой от старческих форм плебейского, рационалистического, антикачественного, космополитического варварства того, что теперь будет только «цивилизацией».
Но всего этого еще слишком мало. В ходе истории такой мир всегда представал как результат первого нисхождения – если можно использовать физическую аналогию, мы бы сказали: первого «падения напряжения». Это цикл «цивилизации воинов», традиционного «бронзового века», который оживает там, где контакты с подлинно трансцендентной реальностью уже прерваны и перестают быть цивилизующей творческой силой, где уже существуют «гуманистические» уловки, где каждое право, действительно данное свыше, утрачено и заменено «героическим» суррогатом на основе возможностей материализованной мужественности, даже если она не лишена, порой, некоторых черт величия и славы.
Таким образом, Шпенглер, отнюдь не преувеличивая и не сводя все к своему личному пессимизму, когда он изображает современный мир как мир упадка, показывает, что он не обладает, в конце концов, истинными точками отсчета, согласно которым реальность и действительные масштабы такого упадка могли бы быть поняты в полной мере. Шпенглер представляется нам эпигоном консерватизма лучшей традиционной Европы вчерашнего дня, той, которая пережила агонию в Мировой войне и в крушении последних империй. Даже если эта точка отсчета относительна и не позволяет уловить первые звенья в цепи причин, ее уже достаточно, чтобы способствовать осуждению основных аспектов современного декаданса и бить тревогу по поводу будущего, которое нам готовят.
Критическая и разрушительная часть, разработанная на этой основе Шпенглером, независимо от того, включает ли она уже известные мотивы, является ли она более или менее «оригинальной», имеет несомненную ценность, демонстрирует полный мужества радикализм, и заставляет нас столкнуться не с мнениями, а с фактами; фактами, от которых могут отречься или исказить с помощью подрывных переоценок только те, кто хочет лгать себе или другим. Бесполезно вспоминать здесь шпенглеровское описание «сумеречной» цивилизации, цивилизации масс, анти-качественной, неорганической, урбанистической, нивелирующей, внутренне анархической, демагогической, анти-традиционной цивилизации. После выхода капитального труда Шпенглера все это стало обычным делом. Скорее, следует отметить, что Шпенглер до самой смерти оставался верен своим взглядам, не позволял соблазнить себя никаким новым ярлыком, не шел как многие на компромисс, сохранял необходимую сдержанность перед лицом стольких течений, которые, несмотря ни на что, в итоге оказываются вредны именно тем, что они хотели бы преодолеть. Шпенглер оставался непримиримым «антисоциалистом» до самого конца: мистика гитлеровской революции не смогла заслонить от него видение всего того, с чем еще предстоит бороться и что все еще существует и, более того, растет как начало еще более страшных и окончательных кризисов.
Последняя книга Шпенглера – «Годы решений» – вызвала самые разнообразные отклики в мире, а в Германии она принесла автору много нападок. Мало кто потрудился изучить правильное соотношение между взглядами, представленными в этой книге, и взглядами его основной работы, к которой, строго говоря, «Годы решений» должны быть лишь приложением. Многие легко возражают, что если циклический закон верен в своем натуралистском детерминистском характере, то сама проблема «решений», само обращение к людям, способным сдерживать и доминировать над силами вырывающихся масс, чтобы предотвратить окончательный крах цивилизации белой западной расы, абсурдна и противоречива. То, что должно произойти, произойдет, так же как для человека можно иногда отсрочить, но не устранить судьбу смерти. При ближайшем рассмотрении, однако, это противоречие исчезает, поскольку, в конце концов, даже в лучшем из предусмотренных Шпенглером случаев, в том, для которого многие поверхностные люди в его последней мысли хотели видеть возрождение от пессимизма к «героическому оптимизму», даже в этом случае далеко не преодолен цикл «цивилизации» (в негативном смысле антикультуры).
Современное положение белого Запада, по мнению Шпенглера, характеризуется двумя мировыми революциями, одна из которых внутренняя, а другая внешняя. Первая, в той или иной форме, уже почти произошла, это социальная революция, появление массового элемента, который будет пронизывать все формы и ценности современной жизни и «эволюционировать», обращаясь со своими разнообразными «претензиями» к своеобразному капитализму и стандартизированному благосостоянию, это становится началом напряженности и экономических кризисов, не имеющих аналогов в предыдущей истории. Вторая революция — это та, которую готовят черные расы, которые по мере европеизации и освоения «цивилизации» и инструментов власти белых рас угрожающе возбуждаются и стремятся сбросить иго, эмансипироваться и окончательно вырвать у Запада его древнюю гегемонию. Возможно, две революции сойдутся, как в России (которую Шпенглер считает вернувшейся в Азию через большевизм); и тогда это будет окончательный крах Западной цивилизации.
Против этих угрожающих перспектив Шпенглер может только ссылаться на идеал «прекрасного зверя», «вечный инстинкт воина в человеке, хищный грабитель», скрытый в периоды «цивилизованного» отупения, но готовый к действию, когда жизненная субстанция народов чувствует угрозу уничтожения. Такой инстинкт должен проявиться в белой расе в эти часы принятия решения и, утвердившись, привести к новой эпохе кесарева сечения. Новым Цезарям придется запрягать и вести за собой массы в будущих войнах, которые будут вестись уже не между нациями и нациями, а между континентами и континентами, и ставкой в которых будет мировая империя, imperium mundi.
Это видение во всех отношениях соответствует той «трагической фаустовской душе, жаждущей бесконечности», которую Шпенглер рассматривал как первый принцип «западного» цикла, и как нечто позитивное, тогда как для нас, то есть с традиционной точки зрения, это, напротив, один из главных факторов западного декаданса. Но, если отбросить оценки, вышеупомянутое шпенглерианское видение вполне можно рассматривать как предвестие реальных вещей, которые созревают и к которым мы должны быть готовы. Путь к воскрешению, к возвращению к формам нормальной, традиционной цивилизации, управляемой духом, остается далеко не ясным. Даже огромные империи, которые будут знать только двуединость массы-цезаря, представляют собой не что иное, как усиление рака разрушительного метрополизма, демонизма масс, короче говоря, они полностью подпадают под симптоматику упадочных цивилизаций: даже если в них массы снова будут скованы, принуждены к новому аскетизму труда во имя голой, абсолютной воли к власти сверхнациональных образований, к которым они принадлежат. Качества людей с железной рукой, доминирующих хищных грабителей, также не являются качествами истинных лидеров – цезари Шпенглера уже имеют мало общего с историческим Цезарем, который мог заявить: «В моем роду есть величие царей, превосходящих властью людей, и священность богов, в руках которых власть царей».
Настоящей задачей будет не связывание и воодушевление масс, а уничтожение их как масс, создание в них вновь сочленений, классов, каст, дифференцированных способов чувствовать, действовать, желать, наконец, подлинно духовного климата, общей гордости повиноваться и иерархически упорядочивать себя перед носителями подлинного авторитета свыше. Только тогда свет сумерек уступит место свету первой зари и тупик конца цикла будет преодолен. Но в этом отношении Шпенглер говорит нам очень мало.
Хотя большинство видит в его последнем произведении героико-оптимистический подъем по сравнению с основной книгой, те, кто смотрит на него более широко, задаются вопросом, не является ли это видением отчаяния. Даже в «Годах решения» Шпенглер предстает скорее как тот, кто дал волю смущенным, хотя и реальным, чувствам зреющих событий, чем тот, кому обладание истинными принципами позволяет доминировать над случайностью времени и предложить истинную ориентацию конструктивных сил.
Единственная точка опоры Шпенглера в этом отношении – его «прусский» идеал (заметим, что для Шпенглера «прусский» – это не национальный характер, а родовое обозначение способа существования характера: «не каждый, кто родился в Пруссии, является пруссаком: этот тип возможен повсюду на белом свете и действительно все еще встречается, хотя и редко»). «Пруссачество» — это чувство «расы», «дисциплинированной самоотдачи, внутренней свободы в исполнении долга, самообладания, самопреодоления во имя великой цели», «аристократического упорядочения жизни в соответствии с разрядом различных занятий». Оставаясь в рамках простой сферы «дисциплин», все это, безусловно, является твердым традиционным ориентиром, антисоциалистическим и антидемократическим, и может стать отправной точкой для тех, кто все еще сопротивляется. Шпенглер, который не без оговорок смотрел в лицо сегодняшней Германии, которая в своих «революционных» физиономиях проявляет так мало понимания собственного лучшего «прусского» прошлого, тем не менее, в этом отношении дал лояльное признание фашизму. В то же время он предвидел, что фашистские режимы этих десятилетий «должны будут эволюционировать в новые, непредсказуемые формации» и что национализм нынешнего типа сам обречен на исчезновение. В imperium mundi, которое под знаком той или иной расы, помимо своей прусско-цезарианской элиты, в конечном итоге повторит тот же абсурдный большевизм? Это тот предел, где способности Шпенглера к видению дали сбой. Он не смог предоставить нам истинные условия альтернативы для принятия великого решения. Скорее, он был эпигоном мира, идущего к концу, судьбу которого он постиг в драматическом видении.
Перевод Ислама Паштова