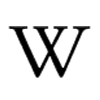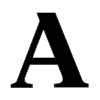Заново учиться читать Пьера Кластра
«Дикари хотят умножения множественного»
П. Кластр
В «Археологии насилия», опубликованной на французском языке в 1980 году под названием «Recherches d’anthropologie politique»[1], собраны тексты, большинство из которых было написано незадолго до смерти их автора тремя годами ранее. Книгаформирует пару со сборником статей «Общество против государства» (1974)[2]. Если последний обладает большей внутренней связностью и включает тексты, основанныепреимущественно на самостоятельном этнографическом опыте, то «Археология насилия» документирует стадию лихорадочного творчества, на которой пребывал автор в течение тех месяцев, что предшествовали несчастному случаю на дороге в Севеннах, унёсшему жизнь 43-летнего антрополога.
На фоне других важных текстов выделяются две последние главы: эссе, в честь которого назван сборник в его нынешней форме[3], и следующая за ним статья – последняя из опубликованных при жизни автора. В них представлена существенная переработка прославившей автора концепции — примитивного общества как «общества противгосударства». Возвращаясь к классической проблеме связи между насилием и установлением суверенного политического тела, Кластр утверждает функционально позитивное отношение между «войной» (или, скорее, метастабильным состоянием скрытой взаимной враждебности локальных автономных сообществ) и коллективной интенциональностью, которое определяет то, что является конститутивным для примитивных обществ, – дух их законов, выражаясь в манере Монтескьё[4].
Смерть Кластра стала второй трагической и преждевременной утратой, которую пережило поколение французских антропологов, воспитанных в течение 50-60-х гг. Этот период интенсивного интеллектуального брожения во Франции – и в других частях мира – привёл к значительным сдвигам в западной политико-культурной восприимчивости и наделил 60-е и 70-е уникальным качеством – вероятно, наиболее подходящим словом для его обозначения могла бы стать «надежда». Именно нейтрализация этих изменений была одной их главных целей согласованной «революции правых», которая обрушилась на планету, навязав свою физиономию – одновременно высокомерную и тревожную, алчную и разочарованную – последующим десятилетиям мировой истории.
Первым из ушедших был Люсьен Себаг, который покончил с собой в 1965 году – к безмерному ужасу своих друзей (среди которых был и Феликс Гваттари), учителя Клода Леви-Стросса и психоаналитика Жака Лакана. Двенадцать лет, которые разделяют смерти двух этих этнологов, родившихся в 1934 году, получивших философское образование, порвавших с Коммунистической партией после 1956 года и обратившихся к антропологии под мощным интеллектуальным влиянием Леви-Стросса (тогда приблизившимся к своему зениту), вероятно, отчасти проясняют то различие в отношениях со структурализмом, которое угадывается в их подходах. Себаг, член энергичной франкоязычной общины тунисских евреев, был очень близок к основателю структурной антропологии, который считал молодого человека своим потенциальным преемником. Написанное Себагом объёмное исследование космогонических мифов пуэбло, посмертно опубликованное в 1971 году, было одним из подготовительных материалов для обширных мифологических исследований Леви-Стросса, которые, в конечном счёте, открыли антропологии глаза на самобытность америндской мысли. Себаг, к тому же, сохранял интенсивную вовлечённость в психоанализ; одна из немногих его этнографических работ, опубликованных при жизни, была посвящена анализу снов Байпуранги – молодой женщины из народа аче, чьё поселение Себаг посетил в тот же период, когда ими [аче] занимался Кластр; после чего Себаг обратился к полевой работе с айорео и чако, которая так и не была завершена из-за его смерти.
Что у Кластра было общего с его другом, так это амбиция перечитать современную социальную философию в свете антропологического учения Леви-Стросса; но где-то здесь сходство между их устремлениями и заканчивалось. Себага в первую очередь интересовали мифы и сны, дискурсы человеческой фабуляции; темами, которые предпочитал его коллега, были ритуалы и власть, механизмы установления общественного, – все это очевидным образом предполагало меньше аналитических заимствований из структурной антропологии. Более того, Кластр довольно рано приступил к разработке уважительной, но строгой критики структурализма, отказавшись придерживаться позитивистского мнения, которое начало формироваться вокруг работы Леви-Стросса и грозило трансформировать её – руками эпигонов – в подобие «страшного суда разума, способного нейтрализовать все неоднозначности истории и мысли[5]». При этом Кластр – на протяжении всей своей карьеры – проявлял куда более беспощадную враждебность – в которой точно не было ни капли уважения[6] – к тому, что он называл «этномарксизмом», а именно – к группе французских антропологов, которые намеревались применить к нецентрализованным формам общественного устройства (в частности, родовым обществам Западной Африки) концептуальные догмы исторического материализма.
Если Себаг написал книгу под названием «Марксизм и структурализм[7]», то Кластр, напротив, оставил нам «Общество против государства» и «Археологию насилия» – главы виртуальной книги, которую можно было бы назвать «Ни марксизм, ни структурализм». В обеих позициях он находил один фундаментальный изъян: привилегированную экономическую рациональность и подавленную политическую интенциональность. Метафизическое обоснование социуса в производстве у марксистов и обмен у структуралистов лишили оба подхода способности ухватить сингулярную природу примитивной социальности, резюмированную в кластровской формуле «общество против государства». Это выражение отсылает к модальности коллективной жизни, основанной на символической нейтрализации политического авторитета и структурном сдерживании всегда-присутствующих тенденций к обращению власти, богатства и престижа в принуждение, неравенство и эксплуатацию. Кроме того, оно обозначает политику межгруппового альянса, подчинённого стратегическому императиву локальной, ориентированной на общину автономии.
Не-марксизм Кластра отличался от его не-структурализма. Для него исторический материализм был этноцентричен: производство подаётся как истина общества, а труд – как суть человеческого удела. Этот тип эволюционизма, приводимый в движение экономикой, сталкивался со своим абсолютным эпистемологическим пределом в примитивном обществе. Кластр любил говорить, что «в своём бытии» примитивные культуры представляют собой «машины антипроизводства». На месте политической экономии контроля – контроля, осуществляемого старыми над производительным трудом молодых, мужчинами – над репродуктивным трудом женщин, – того, который этномарксисты, вслед за Энгельсом, наблюдали в обществах, названных ими – с безупречной логикой – «докапиталистическими», Кластр в своих «примитивных обществах» различал как политический контроль над экономикой, так и общественный контроль над политикой. Первый проявлялся в принципе малопроизводительной достаточностии в сдерживании накопления посредством форсированного перераспределения или ритуального разрушения; второй – в отделении руководящего положения от принудительной власти, а также в суицидальной погоне воина за славой. Примитивное общество функционировало как иммунологическая система: постоянная война была модусом контроля над искушением контролировать, с одной стороны, и риском быть контролируемым – с другой. Война противостоит государству, но решающее значение имеет то, что социальность, по Кластру, пребывает на стороне войны, а не суверенности[8]. «Археология насилия» – это анти-гоббсовская книга[9]. Возможно, в ещё большей мере она является анти-энгельсовской – манифестом против навязанного континуизма мировой истории[10]. Кластр – мыслитель разрыва, дисконтинуальности, случая. В этом отношении он, пожалуй, оставался близок Леви-Строссу.
В своей работе Кластр скорее радикализует структурализм, нежели отказывается от него. Идея «холодных обществ» – обществ, организованных таким образом, что их эмпирическая историчность не интернализована в качестве трансцендентального условия, – находит у Кластра политическое выражение: его примитивные общества – это холодные общества Леви-Стросса; они против государства по тем же самым причинам, по которым они против истории. В обоих случаях, между прочим, то, что они пытаются изгнать, угрожает вторгнуться в них извне или прорасти изнутри; это была проблема, с которой Кластр, а по-своему и Леви-Стросс, пытались совладать. И если кластрианская война упреждает структуралистский обмен, необходимо акцентировать внимание на том, что она его отнюдь не упраздняет. Напротив, она усиливает (в прототипическом воплощении «запрета на инцест») его выдающийся статус родового вектора гоминизации. По этой причине запрет на инцест не подходит для объяснения той сингулярной формы человеческого существования, которую Кластр называет «примитивным обществом» – тем, что является подлинным объектом антропологии, или этнологии (слова, которые он часто использовал для обозначения своей профессии). По Кластру – и эта точка зрения заслуживает внимания в рамках сегодняшней интеллектуальной конъюнктуры, – антропология, или этнология, – это «наука о человеке, но не о любом человеке[11]». Миссия антропологии – искусства дистанций, парадоксальной науки – состоит в том, чтобы вступить в диалог с теми народами, чьё молчание стало для неё условием возможности быть собственно наукой, – другими по отношению к Западу, «дикарями», или «примитивными» – коллективами,которые уклонились от великого аттрактора государства.
В антропологии, по Кластру, осуществляется изучение человека как того феномена, который характеризуется максимумом интенсивной инаковости, внутренней дисперсности, – феномена, чьи границы неопределимы a priori. «Если зеркало не отражает нашего собственного подобия, это не означает, что воспринимать больше нечего», – пишет автор в «Копернике и дикарях[12]». Это лаконичное замечание отдаётся эхом в недавнем изречении Патриса Маниглие о том, что философ называет «самым большим обещанием[13]» антропологии, а именно: «Вернуть нам образ нас самих, в котором нам себя не узнать[14]». В таком случае цель этого изучения, дух самого обещания – не в том, чтобы редуцировать инаковость, поскольку это и есть тот материал, из которого человечество сделано, но, напротив, умножить его – человечества – образы. Инаковость и множественность – обе они определяют способ, каким антропология устанавливает отношения со своим объектом и этот объект себя конституирует. «Примитивное общество» – имя, которое Кластр дал этому объекту и своей собственной встрече с множественностью. И если государство существовало всегда, как заявили Делёз и Гваттари в своем проницательном комментарии к Кластру[15], тогда примитивное общество тоже будет существовать всегда: как имманентное государству внешнее, как инстанция антипроизводства, перманентно преследующая производительные силы, и как множественность, не поддающаяся интериоризации планетарными мегамашинами. Короче говоря, «примитивное общество» – это одно из концептуальных воплощений тезиса о том, что другой мир возможен, что есть жизнь за пределами капитализма, как и общество вне государства. Всегда было и – за это мы боремся – всегда будет.
«Кластр нашёл способ утверждения того, что я бы предпочёл всем академическим предосторожностям». Человеком, которому принадлежит это высказывание, является Николь Лоро[16], выдающийся исследователь эллинизма, который, тем не менее, без колебаний противопоставляет ряду утверждений Кластра собственные критические замечания – сколь благоразумные, столь и невозмутимые. Это невозмутимость, которая, надо сказать, оказывается весьма редкой, когда речь заходит о рецепции Кластра, чей «способ утверждения» является весьма поляризующим. С одной стороны, он пробуждает в фанатичных поборниках разума и порядка ненависть к поразительной интенсивности; нередко его антропологический анархизм становится мишенью для вердиктов, которые, кажется, имеют больше отношения к криминальной психопатологии, чем к истории идей[17]. Даже в специфическом поле южноамериканской этнологии, где его влияние является определяющим (что отнюдь не означает «нормативным») для целого поколения, сегодня можно наблюдать реинтенсификацию усилия по обнулению его работы в рамках плохо замаскированного идеологического движения, где «академическая предосторожность», кажется, функционирует как инструмент концептуального приручения мысли американских индейцев, редуцирующего её к безопасной банальности, дабы подчинить режиму «гармонии», в которой Кластр видел главную угрозу первобытному способу существования в целом.
Более великодушные и неутомимые натуры, с другой стороны, Кластр подталкивает к верности, которая может оказаться слишком неуёмной – благодаря чарующей силе его письма, с его обманчиво шаблонной, настойчивой краткостью, с вводящей в заблуждение прямотой его аргументации и, более того, с подлинной страстью, которой пропитана почти каждая страница его сочинений. Кластр заражает своего читателя ощущением, будто он или она – свидетели привилегированного опыта; он делится с ним/ней своим собственным восторгом от экзистенциального величия абсолютно Другого – теми «образами нас самих», в которых мы себя не узнаем и которые тем самым сохраняют свою тревожную автономию.
Итак, сложный автор. Те, кто нуждается в том, чтобы (пере)учиться читать его – по прошествии столь многих лет, в течение которых их убеждали простить и забыть его, – уж точно являются его лучшими читателями. Они должны оставаться одинаково внимательными как к его достоинствам, так и к его недостаткам: ценить его антропологические прозрения и его чуткость как полевого этнографа («Хроника индейцев гуаяки» (1972)[18] является шедевром этнографического жанра), но и сопротивляться подчас чрезмерной завершённости, а не пугливо отводить глаза при встрече с преувеличениями и сомнениями, поспешностью и неточностью. Сопротивляться Кластру, но не переставать читать его; а ещё – сопротивляться вместе с Кластром: противостоять ему, оставаясь внутри его мысли, которая все ещё жива и способна будоражить.
В панегирике, опубликованном в журнале Libre, Морис Люсиани назвал «безразличие к духу времени» одной из наиболее характерных черт иронической и одинокой натуры своего друга. Суждение любопытное, учитывая, что дух настоящего времени стремится связать Кластра с иным Zeitgeist, дабы обесценить его работу, якобы во всех отношениях устаревшую: обвинить её в романтизме, примитивизме, экзотизме и прочих грехах, которые «нео-нео»критицизм (неолиберальный и неоконсервативный) связывает с annus horribilis 1968-го[19]. Но Люсиани написал это именно в 1978 году, когда период молчания или осуждения, которыми будет окружено предприятие Кластра, как и столь многих его современников, уже начался. Перечитывание «Археологии насилия» тридцать лет спустя – это, стало быть, опыт как дезориентирующий, так и разъясняющий. Если и стоит его испытать, то потому, что кое-что из эпохи, в которую эти тексты были написаны (точнее, против чего они были написаны – и именно в этой мере они помогли это определить), сохранилось в нашу, некоторые из проблем тех времён остаются с нами по сей день. Или, может быть, нет: проблемы изменились радикальным образом, скажет кто-нибудь. Намного лучше: что происходит, когда мы вводим в новый контекст концепты, разработанные в весьма специфических обстоятельствах? Какие эффекты они производят, когда их перекладывают?[20]
Ощущение анахронизма, возникающее в ходе чтения Кластра, вполне реально. Возьмём, к примеру, три первых главы «Археологии насилия». Автор говорит о яномами как о «мечте любого этнографа»; он даёт волю яростному сарказму, направленному против миссионеров и туристов, не прикрываясь какой-либо «рефлексивной» идентификацией антрополога с этими жалкими фигурами; он демонстрирует откровенную очарованность способом существования, который он без колебаний называет примитивным и определяет как счастливый; он попадает в ловушку иммедиатистских и «фаллокулоцентричных» иллюзий, что очевидно в его похвале истории Елены Валеро; также он вязнет в сентиментальном пессимизме «последнего бастиона», «предельной свободы», «последнего свободного примитивного общества в Южной Америке и, несомненно, в мире». Всё это стало табуированным в современном дискурсе, в благовоспитанном сообществе нынешних академиков (сегодня за продвижение и замалчивание подобных начинаний в ответе BBC или канал Discovery). Мы живём в эпоху, когда похотливый пуританизм, позорное лицемерие и интеллектуальная импотенция встречаются для того, чтобы исключить какую бы то ни было возможность серьёзно вообразить (а не просто пофантазировать) альтернативу нашей культурной геенне – или хотя бы распознать её как таковую.
Краткий, но опустошительный анализ антропологического проекта, осуществлённый Кластром[21], сегодня кажется неудобно аристократичным, в ницшеанском смысле. Но в то же время он предвосхищает сущность постколониальной рефлексивности, которая в последующие десятилетия окунёт дисциплину в острый «кризис совести» – худший из возможных способов осуществить творческий разрыв внутри политического или интеллектуального проекта. Эта грань мысли Кластра сегодня стала почти невразумительной – в связи с восходящей волной благих чувств и плохой веры, которые окрашивают культурную апперцепцию неозападного глобализированного обывателя. И тем не менее несложно увидеть, что насмешливое пророчество касательно яномами было по существу верным:
«Они последние из осаждённых. Надо всеми краями нависла смертная тень… И что дальше? Вероятно, мы почувствуем себя лучше, когда последний бастион этой предельной свободы рухнет. Вероятно, мы будем спать и больше не просыпаться… И вот однажды: нефтяные вышки вокруг chabunos[22], алмазные шахты на горных склонах,полиция на дорогах, бутики на речных берегах… Гармония повсюду[23]»
Кажется, это «однажды» наступит совсем скоро: шахты, несущие смертельное разорение, уже построены; нефтяных вышек и бутиков ждать осталось совсем недолго; установление надзора за путями сообщения может занять какое-то время (посмотрим, как отыграет свою роль экономика экотуризма). Важное и неожиданное отличие от пророчества Кластра заключается, однако, в том, что сегодня яномами возложили на себя миссию артикуляции космополитической критики западной цивилизации, отказавшись подпитывать «гармонию повсюду» молчанием побеждённых. Этому посвящены подробные и беспощадные размышления шамана-философа Дави Копенавы, чьи совместные с антропологом Брюсом Альбертом усилия спустя тридцать лет воплотились, наконец, в книге «La chute du ciel[24]», которая призвана изменить термины антропологического разговора с туземной Амазонией[25]. Благодаря этой исключительной работе мы, вероятно, действительно начинаем переходить «от молчания к диалогу»; пускай последний и не может не быть тёмным и зловещим, ведь мы живём в мрачные времена. Свет всецело на стороне яномами – с их неисчислимыми сверкающими кристаллами и великолепными легионами бесконечно малых духов, что населяют видения шаманов[26].
Работа Кластра производит впечатление не столько анахронизма, сколько несвоевременности. Подчас возникает чувство, что его нужно читать так, будто он смутный досократический мыслитель – некто, не просто говорящий о другом мире, но из другого мира, на языке, от которого наш произошёл и который мы более не способны полностью понимать; нам необходимо его интерпретировать: менять распределение его имплицитных и эксплицитных аспектов, переводить фигуральное в буквальное и наоборот, осуществлять конкретизацию его словаря в свете мутаций нашей философской и политической риторики, в общем – переизобретать значение этого дискурса, который поражает нас своей фундаментальной странностью[27].
Примитивное общество: от нехватки к эндоконсистенции
Проект Кластра был направлен на трансформацию «социальной» или «культурной» антропологии в политическую антропологию – в двойном значении слова «антропология»: которая исходит из того, что политическая власть (а не господство или «конфликт») имманентна общественной жизни, и которая должна быть способна принять всерьёз радикальную инаковость опыта тех народов, что названы примитивными; прежде всего это предполагает признание способности последних к саморефлексии. Однако чтобы продвинуться в этом направлении, нужно было сначала разрушить телеологическое – или, скорее, теологические – отношение между политическим измерением публичной жизни и государством-формой, утверждённое и освящённое практически всей западной философией. В знаменитом пассаже Делёз писал о том, что «истинная потребность левых <…> в том, чтобы люди мыслили», потому что «роль левых, если они не у власти, состоит в том, чтобы раскрывать проблемы определённого типа, которые правые желают любой ценой скрыть[28]». Обнаруженная Кластром проблема – проблема необязательного характера связи власти с принуждением – является одной из тех, которые правым необходимо скрыть. Согласно Кластру, антропология неизбежно станет политической, если сумеет доказать, что государство и всё, что оно порождает (в частности, общественные классы), исторически контингентно: «неудача», а не «судьба».
Заставить людей мыслить – значит заставить их всерьёз воспринимать мысль, начиная с мысли других народов, поскольку мышление всегда собирает в себе силы инаковости. История о том, «как наконец-то принять всерьёз» философский выбор, выраженный в примитивных общественных формациях, снова и снова возникает у Кластра. В шестой главе «Археологии насилия», вслед за утверждением, что этнология последних десятилетий сделала многое для того, чтобы освободить эти формации от экзотизирующего западного взгляда[29], автор пишет: «мы больше не бросаем на примитивные общества исполненный любопытства и удивления взгляд отчасти просвещённого, отчасти гуманного любителя; мы относимся к ним всерьёз. Вопрос в том, насколько далеко простирается это отношение?[30]» Действительно – насколько далеко? Вот вопрос, с которым антропология окончательно не разобралась, потому что это вопрос, который её определяет: разобраться с ним, по Кластру, было бы равнозначно растворению необходимого и нередуцируемого различия; это значило бы зайти дальше, чем позволяет дисциплина[31].
Может быть, именно поэтому автор всегда связывал проект своей дисциплины с понятием парадокса. Парадокс – ключевой оператор в антропологии Кластра: парадокс этнологии (знание не как присвоение, но как отказ от владения); парадокс, свойственный обеим главным социальным формам (в примитивном обществе – положение вождя, лишённого власти, в нашем – добровольное рабство); и парадокс войны и профетизма (институциональные механизмы, ориентированные на неразделимость, оказываются зародышем разделённой власти). Можно даже вообразить, что первый великий концептуальный персонаж (или, скажем, «психосоциальный тип[32]») кластрианской теории – безвластный вождь – это своеобразный парадоксальный элемент политического, одновременно пассажир без места и место без пассажира, плавающее означающее, которое не означает ничего конкретного (этот пустой дискурс устанавливает пленум общества). Излишне говорить, что это сделало бы кластрианского вождя эмблематической фигурой структуралистской вселенной[33].
Как бы то ни было, факт в том, что сегодня парадокс – повсюду; не только этнологи сталкиваются с интеллектуальным и политическим вызовом инаковости. Сейчас вопрос о том, «насколько далеко», стоит перед Западом в целом, и на кону здесь – не что иное, как космополитическая судьба того, что нам нравится называть своей цивилизацией. Вопрос о том, «как принимать других всерьёз», сам стал вопросом, который необходимо принимать всерьёз. В «La sorcellerie capitaliste[34]» – одной из немногих опубликованных в сегодняшней Франции книг, что хранят верность духу кластрианской антропологии (опосредованной голосом Делёза и Гваттари), Пиньяр и Стенгерс замечают:
«…Мы привыкли сокрушаться по поводу преступлений колонизации, и признания вины превратились в рутину. Но нам не хватает чувства ужаса от столкновения с идеей о том, что мы не только воспринимаем себя в качестве мыслящей головы человечества, но и что мы из самых благих побуждений не перестаём делать это. Ужас только начинается, когда мы осознаём, что несмотря на свою толерантность, угрызения совести и вину, мы не так уж сильно изменились[35]»
И вопрос, которым авторы завершают своё размышление, является версией того, что был поставлен Кластром: «как освободить место для других?[36]»
Освободить место для других, конечно же, не означает сделать их образцом для подражания, заставить их превратиться из наших жертв[37] в наших спасителей. Проект Кластра относится к числу тех, которым свойственна вера в то, что подлинная цель антропологии состоит в прояснении онтологических условий самоопределения Другого, что прежде всего предполагает признание его собственной социально-политической консистенции, которая, как таковая, не поддаётся переносу в наш мир, как если бы она была давно утраченным рецептом вечного вселенского счастья. «Примитивизм» Кластра не был политической платформой, предназначенной для Запада. В своём ответе Бирнбауму он пишет:
«Не в большей мере, нежели астроном, предлагающий другим позавидовать судьбе звёзд, выступаю я за мир дикарей. Будучи аналитиком определённого типа общества, я пытаюсь вскрывать модели его функционирования, а не конструировать программы…»[38]
Сравнение с астрономом напоминает «взгляд издалека» Леви-Стросса, но включает в себя иронически-политический изгиб, который ставит нас на соответствующее место, как если бы именно мы, а не дикари, отправились в путешествие – одновременно желанное и невозможное. В любом случае Кластр не притворялся, будто у него есть чертежи транспортного средства, которое бы позволило нам совершить это путешествие. Он верил, что абсолютный предел не позволит модерным обществам достичь этой «другой социологической планеты»[39]: популяционный барьер. Отказываясь от обвинения в демографическом детерминизме[40], Кластр всегда утверждал, что малые демографические и территориальные показатели примитивных обществ – это фундаментальное условие уклонения от разделения властей: «все государства заинтересованы в увеличении рождаемости»[41]. Примитивные множественности скорее субтрактивны, нежели аддитивны; более молекулярны, чем молярны; миноритарны – как в количественном, так и в качественном отношении: множественное создаётся только из малого и незначительного.
Несомненно, анализ власти в примитивных обществах способен предоставить пищу для размышлений о политике в наших собственных обществах[42], но, скажем так, способом преимущественно сравнительным и спекулятивным. Почему государство, которое, в конечном счёте, является не более чем антропологической случайностью, стало исторической необходимостью у столь многих народов, и в особенности – в рамках нашей культурной традиции? В каких условиях гибкие линии примитивной сегментарности с её кодами и территориальностями приводят к жёстким линиям обобщённого сверхкодирования, т. е. к установлению государственного аппарата захвата, отделяющего общество от него самого? Более того, как помыслить новый лик государства в мире «обществ контроля»[43], где трансцендентность вновь становится имманентной и ьмолекулярной, а индивид интериоризирует государство и постоянно им модулируется? Каковы новые формы сопротивления, способные заявить о себе, иными словами – те, что неминуемо возникнут? (И мы говорим «неминуемо», ибо здесь мы также имеем дело с раскрытием модусов функционирования, а не с вопросом конструирования программ. Или даже так: мы говорим подобным образом, чтобы тем успешнее их сконструировать.)
В антропологии есть два совершенно разных способа «универсализации», т. е. установления обмена образами между Собой и Другим. С одной стороны, антропология может заставить образы «других» функционировать так, чтобы узнать нечто о «нас», обнаружить некоторые аспекты нашей собственной человечности, в которых мы не способны себя узнать. Таков антропологический проект, который, будучи зачатым в золотом веке Боаса, Малиновского и Мосса, консолидировался в период Кластра и продлился по сию пору – от Леви-Стросса до Маршалла Салинза, от Роя Вагнера до Мэрилин Стратерн: переход от образа Другого, определяемого состоянием нехватки и нужды, негативной дистанцией, отделяющей Другого от Себя, к инаковости, наделённой эндоконсистенцией, автономией или независимостью по отношению к образу нас самих (и в этой мере обладающей для нас критической и эвристической ценностью). Что Леви-Стросс сделал для классификационного разума своим понятием первобытного мышления, что Салинз сделал для экономической рациональности своим обществом первоначального изобилия[44], что Вагнер сделал для концепта культуры (и природы) своей метасемиотикой изобретения и соглашения, и что Стратерн сделала для понятия общества (и индивида) своим прояснением меланезийских практик социального
анализа и реляционного знания, то Кластр сделал для власти и авторитета своим обществом против государства – конструирование посредством образа другого иного образа объекта (образа объекта, инкорпорирующего образ этого объекта, создаваемый другим): иной образ мысли, экономики, культуры, общества, политики.
Ни в одном из этих случаев и речи не шло о возведении Великой Антропологической Стены; задача, скорее, заключалась в том, чтобы указать на бифуркацию, которая, даже имея решающее значение, не становится от этого менее контингентной. Иное космо-семиотическое распределение между фигурой и фоном; «частичная интеграция» серии малых различий в способ различения. Необходимо не переставать настаивать на контингентности этих метаразличий, иначе многие другие «государства» воссоздадут себя в сфере мышления, проводя Великое Разделение, жёсткую, или «мажоритарную», линию на концептуальном плане. В результате мы получим нечто вроде того, что Делёз и Гваттари называли «государственной наукой»[45] – теорематической наукой, извлекающей константы из переменных, которая противопоставлена «миноритарной науке» – номадической и проблематической науке постоянных вариаций, связанной с машиной войны, а не с государством; и по своему призванию антропология – наука миноритарная (та самая кластрианская парадоксальная наука). Это контингентное различие между Собой и Другим не препятствует, а, напротив, способствует восприятию элементов инаковости в самом сердце нашей «подлинной» идентичности. Таким образом, дикарская мысль – это не мысль дикарей, но дикий потенциал любой мысли в той мере, в которой она не «одомашнена с целью извлечения прибыли»[46]. Принцип малопроизводительной достаточности и тяга к творческому разрушению собственности пульсируют под всяким морализмом экономии и предполагаемой постлапсарианской ненасытностью желания[47]. Наше общество тоже способно порождать моменты – в нашем случае всегда исключительные и «революционные», – в которые жизнь проживается в качестве «ряда изобретений»[48] и разделяет со всеми другими (пусть и в парадоксальном, наполовину отрицательном модусе) осуществляемую людьми реляционную интерпретацию, которую мы называем «родством»[49]. И наконец, в случае Кластра реализация нашей конститутивной зависимости, в сфере мысли как таковой, до государства-формы, не препятствует перцепции (и концепции) всех иных интенсивностей, изломов, расколов и линий ускользания, посредством которых наше общество постоянно сопротивляется захвату и контролю со стороны сверхкодирующей трансценденции государства. В этом смысле общество против государства не теряет силу в качестве «универсального» концепта – не идеального типа или ригидного указателя социологического вида, но инструмента анализа любого опыта коллективной, реляционной жизни.
С другой стороны, второй способ, которым антропология универсализирует себя, нацелен на то, чтобы продемонстрировать, что примитивные куда больше похожи на нас, чем мы на них: они тоже хотят генетической максимизации и индивидуального владения собственностью; они тоже оптимизируют соотношение выгод и затрат и совершают рациональные выборы (что не исключает легкой иррациональности, когда речь заходит об их отношениях с «природой»: они истребили американскую мегафауну! они сожгли Австралию дотла!); они, как и мы, прагматичные и здравомыслящие ребята, которые не путают британских судовых капитанов с местными богами (Обейесекер против Салинза), как и не воспринимают свои внутренние, субстантивные самости в качестве реляционных «дивидуальных» сущностей (Липума против Стратерн); они тоже учреждают общественное неравенство при первой же возможности; они жаждут власти и обожают тех, кто сильнее; они стремятся к трём благам модерного человека: святой троице Государства (отец), Рынка (сын) и Разума (святой дух). Об их принадлежности к человечеству свидетельствует то, что сейчас они разделяют с нами все наши недостатки, которые понемногу трансформировались в характерные свойства в течение тех десятилетий, что подарили нам Тэтчер, Рейгана, «Патриотический акт», новую «Крепость Европу», неолиберализм, ну и эволюционную психологию в качестве бонуса. Первобытное общество сегодня кажется иллюзией, «изобретением» модерного общества[50]; последнее, очевидно, отнюдь не является иллюзией и никогда никем изобретено не было; вероятно потому, что капитализм реален, естественен и самопроизволен. (Теперь нам известно, где скрывается действительное ядро божественной иллюзии.)
Именно этому, второму модусу универсализации – реакционному, лишённому воображения и, помимо прочего, воспроизводящему модель и фигуру государствакак подлинной универсальности – противостоит работа Кластра, как можно было бы сказать, забегая вперёд. Ведь он прекрасно знал, что государство не умеет терпеть, не станет терпеть первобытные общества. Имманентность и множественность всегда возмутительны в глазах Единого.
Индивиды versus сингулярности
Тезис об обществе против государства порой путают с доктриной либертарианства в «американском» значении термина, как если бы вся его [общества против государства] логика в сумме давала противостояние вмешательству центрального правительства в жизнь индивидов, похвалу так называемому свободному рынку, защиту гражданских ополчений и т. д. Но принять теоретический демонтаж концепта государства как telos’а коллективной человеческой жизни за отказ от политической организации как таковой, или обратить его в гимн «грубому индивидуализму» – значит совершить гротескную ошибку. Глава 9 «Археологии насилия» в этом отношении показательна, поскольку посвящена обсуждению симметричного неверного прочтения. Пьер Бирнбаум, несостоятельность критических замечаний которого автор здесь демонстрирует, предложил дюркгеймианское прочтение «Общества против государства», отождествив его с «обществом тотального ограничения». Кластр резюмирует его критику следующим образом:
«Иными словами, если примитивное общество не знает социального разделения, цена тому куда более жуткое отчуждение, подчиняющее общину жёсткой системе норм, которые никто не может изменить. Общественный контроль абсолютен: это больше не общество против государства, это общество против индивида[51]»
Ответ Кластра заключается в том, что «общественный контроль», или скорее политическая власть, прилагается не к индивидуальному, а к индивиду – вождю, который индивидуализируется так, чтобы общественное тело могло оставаться неразделённым «по отношению к самому себе». Затем автор набрасывает тезис о том, что примитивное общество подавляет в себе государство посредством метафизического вытеснения его причины и истока, относя и то, и другое к мифической сфере Данного – того, что всецело вне человеческого контроля и, как таковое, не может быть присвоено частью общества с тем, чтобы конвенциализировать мирские неравенства. Вынося свои основания за пределы «себя», общество становится природой, т. е. оно становится тем, что Вагнер бы назвал «символом, который обозначает сам себя»[52], блокируя проекцию тотализующей конвенции, которая бы его символизировала, скажем так, сверху. Гетерономная трансценденция истока служит, таким образом, гарантией имманенции и автономии социальной власти. Кластр приписывает эту политическую мини-теорию примитивной религии Марселю Гоше, спустя годы развившему её в направлении, которое Кластр, вероятно, не мог предвидеть. Гоше соотнёс исток государства с этой самой экстериоризацией истока – посредством человеческого овладения местом трансценденции, – а отсюда перешёл (если передать этот сюжет вкратце) к размышлению о добродетелях либерального конституционного государства – режима, в котором общество достигло идеальной ситуации автономии через искусную интериоризацию символического истока общества, которое ни за что не разрушит свою «устанавливающую» экстериорность как таковую. В некотором роде общество против государства – посредством снятия кластрианского анархизма – в конечном счёте обнаруживает себя трансформированным в легко обороняемую политическую программу[53].
На мой взгляд, ответ Бирнбауму можно было бы развить. Общество против государства фактически ориентировано против индивида, потому что индивид – это продукт и коррелят государства. Государство создаёт индивида, а индивид требует государства; само-разделение социального тела, создающее государство, в равной мере создаёт-разделяет субъектов или индивидов (единичное или множественное) в том же движении, в котором государство предлагает себя в качестве модели для них: l’Etat c’est le Moi[54]. И поэтому важно отличать кластрианское общество от его дюркгеймианского омонима; этот источник двусмысленностей не всегда прояснялся Кластром, который порой склонялся к тому, чтобы гипостазировать примитивное общество, т. е. трактовать его в качестве коллективного субъекта, сверхиндивида, который будет реально, а не только формально, экстериорным и антериорным по отношению к государству[55], а значит – онтологически ему гомогенным. Дюркгеймианское общество – это государство-форма в своем «социологическом» обличии: подумайте о конститутивной принудительности социального факта, абсолютной трансцендентности целого по отношению к частям, его функции универсального разума, его умопостигаемой и моральной власти унифицировать сенсорное и чувственное многообразие. Отсюда стратегическое значение, которым, по Дюркгейму, обладает «оппозиция» между индивидом и обществом: первый является версией второго; «члены» общества как коллективного духовного тела подобны мизерным индивидуальным подгосударствам, подчинённым государству как сверхиндивиду. Левиафану. Кластрианское примитивное общество – наоборот – против государства, а значит и против «общества», представленного в государственном образе; оно обладает формой асубъективной множественности. По тому же принципу его компоненты, или «ассоциаты», являются не индивидуальностями или субъективностями, но сингулярностями. Примитивные общества не знают «абстрактной машины лицевости»[56] – производителя субъектов, лиц, которые выражают субъективную интериорность.
Интерпретация анархизма Кластра в индивидуалистических или «либеральных» терминах, следовательно, будет ошибкой, симметричной способу прочтения, который представит его примитивное общество как тоталитарно-тотализующий порядок «дюркгеймианского» типа. Используя удачную формулировку Бенту Праду Мл., можно сказать, что кластрианская мысль была не столько анархической, сколько «анархонтической» («anarchontic«) – это слово-бумажник включает в себя не только отсылку к афинской роли архонта (правителя), но и связку /-ontic/, как бы представляющую метафизическое, или онтологическое, содержание анархизма Кластра – противостояние тому, что он считал краеугольным камнем западной доктрины государства, а именно идее о том, что бытие едино, а единое – это бог.
Между философией и антропологией
Принято считать Кластра автором ежистого типа[57] («только одна идея, но БОЛЬШАЯ идея»), защитником монолитного тезиса об «обществе против государства» – модусе организации коллективной жизни, определяемом отношением двойного сдерживания: одно – внутреннее (вождество без власти), другое – внешнее (центробежный аппарат войны). Как раз в этой дуальности можно разглядеть перспективу альтернативного философского прочтения кластрианского тезиса.
Первый способ прочтения делает ударение на роли Кластра в определении универсальной «политической функции» в деле установления «места, где общество явлено самому себе»[58]. Общество против государства здесь определяется некоторым модусом политической репрезентации, тогда как под самой политикой понимается модус репрезентации, проективное устройство, создающее молярного двойника социального тела – в последнем оно видит своё собственное отражение. Фигура безвластного вождя выступает здесь в качестве главного открытия Кластра: новой трансцендентальной иллюзии[59], нового модуса установления (по необходимости «воображаемого») общества. Этот модус будет состоять в проекции внешнего – природы, которую нужно подвергнуть отрицанию ради установления культуры или общества, но которая в то же время должна быть репрезентирована в культуре через симулякр – безвластного вождя.
Этот подход к работе Кластра осуществляет то, что можно было бы назвать «феноменологической редукцией» концепта общества против государства. Он возникает благодаря близости Кластра к кругу интеллектуалов, связанных с Клодом Лефором и журналом Textures, а впоследствии – Libre, где были опубликованы три последние главы «Археологии насилия». Лефор, бывший студент Мерло-Понти, был сооснователем – вместе с Корнелиусом Касториадисом – группы «Социализм или варварство», важного актора в истории левой либертарной политики во Франции. Торговая марка этого феноменологически-социалистического ассамбляжа (который включал Марселя Гоше до его передислокации в 80-х) представляла собой комбинацию решительного антитоталитаризма с не менее твёрдым метафизическим гуманизмом, который проявлялся, например, в «анти-эшанжистской» («anti-exchangist») позиции, занятой Лефором уже на раннем этапе. Критика Лефором структуралистского поиска формальных правил, подменяющих практику, и его предпочтение иметь дело с «формированием живых отношений между людьми»[60], могли оказать влияние на Кластра, наряду с более эксплицитно выведенной из ницшеанства теорией долга, которая соединяет работу Кластра с другим – делёзо-гваттарианским – анти-эшанжизмом.
Это феноменологическое прочтение «политической антропологии» Кластра придаёт ей явный метафизический оттенок. С этой точки зрения именно благодаря политике человек, «политическое животное», перестаёт быть «просто» животным, избавляется от природной непосредственности и превращается в разделённое сущее, обладающее как необходимостью, так и способностью представлять, чтобы быть. Экстрачеловеческое, даже будучи признанным в качестве необходимого условия установления человечества, относится к области веры; это разделение, которое пролегает внутри человека, поскольку экстериорность – трансцендентальная иллюзия. Политика – настоящее зеркало для животного, ставшего Субъектом: «только человек способен показать человеку, что он человек»[61].
Вторая и, на мой взгляд, более важная апроприация этнологии Кластра делает ударение, скорее, на регистрации потоков, нежели на установлении двойников, на семиотически-материальных кодах, а не на символическом Законе, на дополнении и молекулярной сегментарности, а не на бинарной макрополитике внутреннего и внешнего, на центробежной машине войны, а не на центростремительном вождестве. Речь, конечно же, идёт о прочтении Кластра, осуществлённом Делёзом и Гваттари в «Анти-Эдипе» (1972) и «Тысяче плато» (1980), где идеи Кластра были использованы в качестве одного из краеугольных камней в строительстве «всеобщей истории контингентности» и радикально материалистической антропологии, которая совсем не в ладах с политическим спиритуализмом, проистекающим из феноменологической интерпретации.
«Анти-Эдип» был значимой книгой для самого Кластра, посещавшего курс, в рамках которого были обсуждены её основные положения, тогда как в «Тысяче плато», опубликованной после его смерти, авторы критиковали и развивали его интуиции в совершенно новом направлении. В некотором смысле Делёз и Гваттари завершили работу Кластра, выявив философское богатство, которое потенциально в ней содержалось. Смущённое и смущающее молчание, с которым антропология как дисциплина встретила две книги «Капитализма и шизофрении», предложившие одни из самых захватывающих и приводящих в замешательство диалогов, что когда-либо имели место между философией и антропологией, не может не быть связано с аналогичным дискомфортом, который вызывала работа Кластра в неизменно благоразумной и неизменно благонравной академической среде. «Мне кажется, что этнологам стоит чувствовать себя как дома в «Анти-Эдипе»…[62]»Что ж, подавляющее большинство из них не почувствовало[63].
В «Анти-Эдипе» общество против государства становится «первобытной территориальной машиной», избавившейся от дополнительных коннотаций коллективного субъекта и трансформировавшейся в чистый «способ функционирования», чья задача состоит в интегральном кодировании материальных и семиотических потоков, которые конституируют человеческое желающее производство. Территориальная машина кодирует потоки, инвестирует органы, помечает тела: это машина записи. Её работа предполагает имманентное единство желания и производства, которое является землёй. Проблема безвластного вождя тем самым переносится в более широкий геофилософский контекст: воля к отказу от разделения, которую Кластр видел в примитивном социусе, становится импульсом к абсолютной кодификации всех материальных и семиотических потоков и к сохранению коэкстенсивности социального тела и тела земли. «Упреждающее» заклинание разделённой власти – это сопротивление примитивных кодов деспотическому сверхкодированию, война Земли против детерриториализующего Деспота. Коллективная интенциональность, выраженная в противостоянии унификации под властью сверхкодирующей сущности, сбрасывает свою антропоморфную маску, становление – и здесь мы обращаемся к языку «Тысячи плато» – производство определённого режима знаков (доозначающая семиотика) и преобладание примитивной сегментарности, отмеченной «относительно гибкой линией переплетённых кодов и территориальностей»[64].
Главное пересечение «Анти-Эдипа» с работой Кластра – это общий, хоть и не всегда в точности идентичный, отказ от обмена как фундаментального принципа социальности. В «Анти-Эдипе» утверждалось, что понятию долга следует занять место, на которое Мосс и Леви-Стросс поставили взаимный обмен. Уже в своей первой статье о философии первобытного вождества – извилистой критике ранней работы своего учителя, где роль вождя мыслилась в терминах взаимного обмена между лидером и группой, – Кластр предположил, что первобытный концепт власти одновременно включает утверждение взаимности как сущности социального и её отрицание благодаря размещению роли вождя вне его сферы, т. е. в позиции постоянного должника группы. Не отрицая антропологической ценности обмена, Кластр заявил о социально-политической необходимости не-обмена. В его последнем эссе о войне дизъюнкция между обменом и властью трансформируется в странный резонанс. Переместившись из интракоммунитарного отношения в интеркоммунитарное, отрицание обмена превратилось в сущность примитивного социуса. Примитивное общество «против обмена» по тем же причинам, по которым оно против государства: оно жаждет автаркии и автономии, сознавая, что всякий обмен – это форма долга, т. е. зависимости, пусть и взаимной.
В «Тысяче плато» тезисам Кластра посвящены две длинные главы: одна – о «машине войны» как форме чистой экстериорности (в терминах которой организованное насилие или «подлинная» война трактуются как предельно миноритарные) в противоположность государству как форме чистой интериорности (в терминах которой административная централизация, в свою очередь, трактуется как второстепенная); а другая глава посвящена «аппарату захвата» – в ней развита теория государства как модуса функционирования, который является одновременным по отношению к машинам войны и механизмам сдерживания, характерным для примитивных обществ. Эти разработки модифицируют не только элементы положений Кластра, но также и некоторые центральные категории «Анти-Эдипа». Схема дикари/варвары/цивилизованные поперечно размыкается с тем, чтобы включить в себя центральную фигуру номада, с которым машина войны теперь оказывается конститутивным образом связана. Здесь заявляет о себе новое трёхчастное разделение, выведенное из концепта сегментарности, или квантифицированной множественности: гибкая и многоголосая линия примитивных кодов и территориальностей; жёсткая линия сверхкодирующего резонанса (аппарат захвата); и линия ускользания, прочерчиваемая декодированием и детерриториализацией (машина войны). Кластрианское примитивное общество («дикари» из «Анти-Эдипа») утрачивает свою привилегированную связь с машиной войны. Похоже, что в «Тысяче плато» оно просто рекрутируется в качестве формы экстериорности, призванной блокировать тенденции к сверхкодированию и резонансу, которые постоянно грозят поглотить примитивные коды и территориальности. Схожим образом государство способно захватить машину войны (несмотря на её абсолютно внешний характер) и поставить её себе на службу – впрочем, не без риска быть ею разрушенным. Наконец, современные общества сохраняют полноценную связь со своей «примитивной», или молекулярной, инфраструктурой, «залитые гибкой материей, без которой их жёсткие сегменты не выстоят»[65]. Исходя из этого, исчерпывающая и взаимоисключающая дихотомия между двумя макро-типами общества («с» государством и «против» государства) диверсифицируется и усложняется: линии сосуществуют, переплетаются и трансформируются друг в друга; государство, машина войны и примитивная сегментарность – все они утрачивают топологические коннотации и становятся абстрактными формами или моделями, которые проявляются в множественных материальных процедурах и субстратах: в научных типах, технологических филумах, эстетических положениях и философских системах – в той же мере, что и в макрополитических формах организации или модусах репрезентации-установления социуса. Наконец, несмотря на то что Делёз и Гваттари принимают на борт один из фундаментальных тезисов Кластра, утверждая, что вместо того чтобы предполагать некоторый способ производства, государство является именно той сущностью, которая превращает производство в «способ»[66], они в то же время размывают чёткое разграничение между политическим и экономическим, столь важное для Кластра. Хорошо известно, что позиция «Капитализма и шизофрении» по отношению к историческому материализму, включая французский этномарксизм, существенно отличается от той, что представлена автором «Марксистов и их антропологии»[67]. Более того, вопрос об истоке государства перестаёт быть окутанным тайной, каковым он всегда оставался для Кластра. Государство утрачивает исторический или хронологический исток, ведь само время становится механизмом производства неэволюционных реверсивных каузальностей[68]. Государство не только очень давно актуально присутствует «за пределами» примитивных обществ, но также постоянно виртуально присутствует «внутри» этих обществ в форме пагубных желаний, которые нужно изгонять, и очагов сегментарного резонанса, что неизменно возникают[69]. Исторически детерриториализация не является вторичной по отношению к территории, коды неотделимы от движения декодирования[70].
Подвергнутые критике и переквалифицированные, тезисы, изложенные в коротких текстах Пьера Кластра, имеют, тем самым, решающее значение для концептуальной динамики «Капитализма и шизофрении». В частности, кластрианская теория войны как абстрактной машины, производящей множественность, машины войны, которая по самой своей сути противостоит сверхкодирующему чудовищу государства – войны как врага № 1 Единого, – играет ключевую роль в одной из главных философских систем XX века.
Между антропологией и этнологией
Нынешнее возбуждение, сопровождающее археологические открытия в Амазонии, где были обнаружены следы общественных формаций, схожих с карибскими племенами, а также появление новых исторических исследований, посвящённых зонам контактов между государствами Анд и обществами амазонской низменности, подтолкнули исследователей к тому, чтобы отбросить концепт «общества против государства» как вдвойне европейский артефакт: во-первых, он неверно принимает за исходную данность то, что фактически является результатом драматической инволюции америндских обществ, начавшейся в XVI столетии; во-вторых, он является идеологической проекцией некоторых старых западных утопий, которые снова вошли в употребление в роковое десятилетие 1960-х. Тот факт, что оба этих аннулирующих аргумента были совместно мобилизованы против Кластра определёнными течениями в современной этнологии, предположительно говорит о том, что последние не свободны от идеологического багажа. Фокус на центробежных тенденциях, которые сдерживают возникновение государства-формы, никогда не мешал Кластру замечать «медленную работу по объединению сил» в мультиобщественных организациях амазонской низменности или присутствие социальной стратификации и централизованной власти в регионе (особенно в северной Амазонии)[71]. Что касается «анархонтических» европейских утопий, то мы знаем о том, сколь многим они обязаны встрече с новым светом в начале эпохи модерна. Недоразумений было предостаточно, но они не были произвольными. В конечном счете, и это самое важное, следует заметить, что наступивший после Колумба демографический регресс, который фактически был катастрофой, не способен от начала и до конца объяснить современный социально-политический ландшафт туземной Америки; как и любая другая эволюционная траектория, «инволюция» говорит о чём-то куда большем, чем адаптационные ограничения. Именно на этом решающем избытке смысла – структуры, культуры, истории, если пожелаете, – зиждется этнографическая релевантность тезиса об «обществе против государства», и в своей функции избытка он и должен оцениваться[72]
Вероятно, примитивное общество для Кластра являлось чем-то вроде сущности, но эта сущность не была статичной. Автор всегда воспринимал её как глубоко нестабильный модус функционирования – в самом её стремлении к внеисторической стабильности. Как бы то ни было, в действительности имеет место весьма характерный «способ бытия» того, что он называл примитивным обществом, и ни один этнограф, не понаслышке знакомый с амазонской культурой, даже той, что обладает вполне определёнными чертами иерархии и централизации, не может не ощутить со всей очевидностью этот способ бытия – сколь всепроникающий, столь и неуловимый. «Сущность» подобного способа бытия – политика множественности; Кластр, возможно, ошибся лишь в интерпретации этого модуса: якобы последний всегда должен выражаться в терминах «политической» множественности, институциональной формы коллективной саморепрезентации. Политика множественности – это, скорее, режим становления, а не бытия (отсюда его неуловимость); он практически устанавливается и институциализируется в определённых этно-исторических контекстах, но его функционирование не зависит от подобного перехода к молярному состоянию – совсем наоборот. Этот режим предшествует собственному учреждению и остаётся или возвращается к своему стандартному молекулярному состоянию во многих других, не примитивных контекстах. Короче говоря, «общество против государства» – это интенсивный концепт; он обозначает интенсивный модус, или вездесущую виртуальную форму, чьи вариативные условия экстенсивизации и актуализации антропология обязана определить.
Перед потомством Кластра в сфере южноамериканской этнологии стояли две основных цели. Первая заключалась в разработке модели амазонской социальной организации – «символической экономии инаковости» или «метафизики хищничества»[73], – которая бы расширила его тезисы о примитивной войне. Вторая состояла в описании космологического бэкграунда контргосударственных обществ – так называемого америндского перспективизма[74]. Две этих цели открывают пространство плодотворного колебания между структуралистскими и постструктуралистскими тенденциями, которыми характеризуется работа Кластра; обе связаны с предпочтением делёзо-гваттарианской трактовки феноменологической[75].
Вместе они определяют туземный космопраксис имманентной инаковости, который равносилен контр-антропологии, своего рода «реверсивной антропологии», которая локализована в хрупком пространстве между молчанием и диалогом.
Кластрова теория войны, которая, как может показаться на первый взгляд, лишь укрепляет бинарную оппозицию между внутренним и внешним, человеческим «Мы» и менее-чем-человеческим «Другие», фактически приводит к дифференциации и релятивизации инаковости – и, по тому же принципу, любой позиции идентичности, – подрывая нарциссический или «этноцентрический» подтекст[76], который порой сопровождает авторскую характеристику примитивного общества.
Давайте вообразим, будто кластрианская этнология – это концептуальная драма, в которой небольшое количество персонажей, или типов, встречаются лицом к лицу: вождь, враг, пророк, воин. Все они являются векторами инаковости, парадоксальными устройствами, которые определяют социус посредством некоей формы отрицания. Вождь воплощает отрицание того, что основание общества лежит в сфере обмена, и представляет группу в той мере, в которой экстериорность интериоризована: в становлении «пленником группы» он контрпроизводит единство и неделимость последней. Враг отрицает коллективное «Мы», позволяя группе утверждать себя против него – посредством его насильственного исключения; враг умирает, чтобы защитить упорство множественного, логику разделения. Пророк, в свою очередь, является врагом вождя, он утверждает общество против вождества, когда тот, на кого возложена соответствующая должность, грозит ускользнуть от контроля группы, пытаясь учредить трансцендентную власть; в то же самое время пророк тянет общество по направлению к невозможной цели – самораспаду. Наконец, воин выступает в роли собственного врага, разрушая себя в погоне за славным бессмертием, сдерживаемый обществом, которое он защищает от трансформации воинских доблестных подвигов в установленную власть. Вождь – это разновидность врага, пророк – разновидность воина и так далее, и так заново.
Эти четверо героев образуют круг инаковости, который контросуществляет или контризобретает примитивное общество. Но в центре этого круга находится не субъект, рефлексивная форма идентичности. Пятым элементом, который можно считать центральным динамическим элементом как раз в силу его эксцентричности, является персонаж, основополагающий для политики множественности: политический союзник, «ассоциат», живущий где-то в другом месте, между локальной группой и вражескими группами. В примитивном обществе никогда не было лишь двух позиций. Всё обращается вокруг союзника, третьего термина, который обеспечивает возможность обращения внутренней неразделимости во внешнюю фрагментацию, модулируя первобытную войну и трансформируя её в фоновое социальное отношение, или даже, как утверждал Кластр, в фундаментальное отношение примитивного социуса. Политические союзники, те локальные группы, что формируют сборку безопасности (и неопределённости) вокруг всякой локальной группы, постоянно возникают в Амазонии под маской потенциального родства, т. е. как соответствующая форма инаковости (матримониального родства), которая, однако, не перестает быть инаковостью (потенциальным родством), отмеченной агрессивными и хищническими коннотациями; эта форма куда более ритуально продуктивна – т. е. реально продуктивна, – чем всего лишь неопределённая анонимная вражда (или чем депотенциализующая реитерация матримониального обмена, которая производит социальную интериорность)[77]. Именно нестабильная и незаменимая фигура политического союзника является главным препятствием на пути установления как «обобщённого взаимообмена» (сплавления сообществ в социологическое единство более высокого уровня), так и обобщённой войны (суицидальной атомизации социуса). Подлинный центр примитивного общества – эта неплотная сеть локальных групп, жаждущих независимости друг от друга, – всегда остаётся экстралокальным, располагаясь в каждой точке, где может осуществляться обращение между внутренним и внешним. По этой причине «тотальность» и «неразделённость» примитивного сообщества не противоречат дисперсии и множественности примитивного общества. Специфика тотальности означает, что сообщество не является частью какого-либо другого иерархически более высокого целого; специфика неразделённости означает, что оно, кроме того, лишено иерархии внутренней, не разделено на части, формирующие внутреннее целое. Субтрактивная тотальность, негативная неразделённость. Отсутствие локализуемого различения между внутренним и внешним. Умножение множественного.
Общество против государства – это сугубо человеческий проект; политика – дело, которое является строго внутривидовым. В этом пункте америндская этнология за последние годы продвинулась дальше всего, извлекая интуиции Кластра из их антропоцентрической скорлупы и демонстрируя, как его решение принять всерьёз первобытную мысль приводит к сдвигу от описания (иной) формы организации (схожим образом понятого) общества к другому понятию антропологии (иной практике человечности) и другому понятию политики (иному опыту социальности). Пятая глава «Археологии насилия» в этом отношении является фундаментальным текстом. Там автор пишет:
«Сколь угодно малого количества времени, проведённого в амазонском обществе, достаточно, например, для того, чтобы заметить не только набожность дикарей, но и вложение религиозных вопросов в социальную жизнь до той точки, где растворяется разделение секулярного и религиозного, размываются границы между областью профанного и сферой сакрального: если вкратце, то природа, как и общество, насквозь пропитана сверхъестественным. Животные или растения, таким образом, могут быть сразу как природными существами, так и сверхъестественными агентами: если кого-то поранит упавшее дерево, или на кого-нибудь нападёт дикий зверь, либо падающая звезда пересечёт небо, все эти события будут истолкованы не как несчастные случаи, а как проявление умышленной агрессии сверхъестественных сил, таких как лесные духи, души мёртвых и, разумеется, враждебные шаманы. Решительный отказ от случая и разрыва между профанным и сакральным логически ведут к упразднению автономии религиозной сферы, которая в таком случае оказывается локализованной во всех индивидуальных и коллективных событиях повседневной жизни племени. В действительности, однако, никогда полностью не отсутствуя в многочисленных аспектах примитивной культуры, религиозное измерение как таковое утверждает себя в некоторых специфических ритуальных церемониях[78]»
Решение определить религиозное измерение «как таковое» – отказ, следовательно, сделать выводы из того, что предложено общей космологикой амазонских обществ – вероятно, указывает на влияние Гоше[79]. Это делает Кластра менее чувствительным к тому факту, что общая «супернатурализация» природы и общества наделяет любые различения между двумя этими областями крайне проблематичным характером. В не-которых исключительных обстоятельствах – религиозных, если быть точным, – природа раскрывает свою социальность, а общество – свою природность. Это, скорее, космологическая неразделимость природы и общества, нежели экстериоризация «обществом» силы «природы», и её следует связать с политической неразделённостью, которая определяет общество против государства.
И всё же Кластр наставляет нас на истинный путь. В этой главе он проводит сравнение между космологиями народов Анд и низин, которые диакритически контрастируют с точки зрения характерных для этих народов способов обращения с мёртвыми. В аграрном высокогорье, где господствует имперская машина инков, религия опирается на погребальный комплекс (гробницы, жертвоприношения и т. д.), который связывает живых с изначальным мифическим миром (населённым теми, кого автор несколько опрометчиво назвал «предками») с помощью мёртвых; в низинах все ритуальные практики состоят, напротив, в максимальном разъединении мёртвых и живых. Отношение общества с его незапамятным основанием построено, скажем так, над мёртвым телом усопшего, которое должно быть демеморизовано, т. е. забыто и уничтожено (например, съедено), как если бы он был смертельным врагом живых. Ивон Вердье в своем прекрасном комментарии к «Хронике индейцев гуаяки» заметила, что базовое разделение между живыми и мёртвыми является гарантией неразделённости в среде живых[80]. Общество против государства – это общество против памяти; главная и никогда не утихающая война в «обществе-для-войны» ведётся против мёртвых отступников. «Каждый раз, когда мы пожираем умершего, мы можем сказать – ещё одного мертвеца Государство не получит»[81].
Однако нужно сделать дополнительный шаг. Контраст между Андами и низинами предполагает, что вариабельное разделение между живыми и мёртвыми обладает вариабельным отношением с другим вариабельным разделением – между людьми и нелюдьми (животными, растениями, артефактами, небесными телами и прочими элементами космической обстановки). В мирах Анд диахроническая континуальность между живыми и мёртвыми сопровождается противопоставлением людей и нелюдей (которые тем самым воспринимаются как единая всеохватная категория), подчиняющим космос «закону государства», антропологическому закону внутреннего и внешнего, в то же время это позволяет установить среди живых синхронические разрывы, которые блокировались в обществах против государства, благодаря уничтожению мёртвых (никакого прародительства = никакой иерархии). В низинах крайняя инаковость между живыми и мёртвыми делает мёртвых людей предельно близкими к нелюдям – в частности, животным, поскольку в Амазонии принято считать, что души мёртвых обращаются в животных, тогда как одна из главных причин смерти – это месть «духов дичи» и прочих животных душ людям (животные выступают как причиной, так и результатом человеческой смерти). В то же время, однако, это сближение делает нечеловечность модусом или модуляцией человечности: все нелюди обладают схожей антропоморфической сущностью или силой – душой, скрытой под варьирующимися специфически видовыми телесными одеяниями. Отношения с «природой» являются «общественными» отношениями; охота или шаманизм относятся к биокосмополитике; «средства производства» совпадают с «производственными отношениями». Все жители космоса являются людьми в своей области, они потенциально занимают дейктическую позицию «первого лица» в космологическом дискурсе: межвидовые отношения маркированы нескончаемыми спорами вокруг этой позиции, которые можно схематизировать в терминах полярного отношения хищника/жертвы, где агентность или субъектность, помимо прочего, означает способность к хищничеству[82]. Это превращает человечность в позицию, отмеченную относительностью, неопределённостью и инаковостью. Всё что угодно может быть человеком, ведь ни одно сущее не является только одним; каждое сущее – человек для себя: все обитатели космоса воспринимают представителей своего вида как людей, а представителей другого – включая нас, «настоящих» людей (я имею в виду, настоящих для «нас»), – как нелюдей. Молекулярная диссеминация «субъективной» агентности во вселенной, свидетельствующая о несуществовании трансцендентной космологической перспективы, очевидным образом коррелирует с несуществованием унифицирующей политической точки зрения, занятой Агентом (агентом Единого), который бы вобрал в себя принцип человечности и социальности[83].
Именно это этнологи-амазонисты называют «перспективизмом» – туземной теорией, согласно которой способ, каким люди воспринимают животных и других агентов, населяющих мир, существенно отличается от того способа, каким эти существа видят людей и самих себя. Перспективизм – это «космология против государства». Её предельное основание лежит в специфической онтологической композиции мифического мира – той исходной «экстериорности», на которую будут проецироваться основы общества. Однако мифический мир ни интериорный, ни экстериорный; ни настоящий, ни прошедший, потому что он – и то, и другое; точно так же, как и его обитатели, – ни люди, ни нелюди, потому что они – и те, и другие. Мир истоков – это, строго говоря, всё: амазонский план имманентности. И именно в этой виртуальной сфере «религиозного» – религиозного как имманентности – концепт общества против государства обретает свою подлинную этнографическую эндоконсистентность, или различие. Поэтому крайне важно отметить, что характерный для обществ-против-государства способ экстериоризации истока не означает ни «введения» экстериоризации Единого, ни «проективной» унификации Внешнего[84]. Мы должны принять во вниманиевсе последствия того факта, что примитивная экстериорность неотделима от фигур Врага и Животного как трансцендентальных определений (дикой) мысли. Экстериоризация служит дисперсии. Человечество – везде, «гуманизм» – нигде. Дикари хотят умножения множественного.
Примечания:
[1] Исследование в области политической антропологии [прим. пер.].
[2] Clastres P. Society Against the State. New York: Zone Books, 1987.
[3] Clastres P. Archeology of Violence. New York: Semiotext(e), 2010. P. 237-277.
[4] L’Esprit des lois sauvages [«Дух диких законов»] – название сборника эссе, публикация которого приурочена к десятилетию со смерти Кластра (Abensour M. (Ed.) L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou unenouvelle anthropologie politique. Paris: Seuil, 1987).
[5] Prado Jr. B., Leiner P. C., Toledo L. H. de. Lembranqas e reflexoes sobre Pierre Clastres: entrevista com Bento Prado Junior // Revista de Antropologia. 2003. # 46 (2). P. 8.
[6] Clastres P. Archeology of Violence. P. 221-236.
[7] Sebag L. Marxisme et structuralisme. Paris: Payot, 1964. Книга была опубликована до того, как Себаг приступил к полевым исследованиям.
[8] Richir M. Quelques reflexions epistemologiques preliminaires sur le concept de societes contre l’Etat // L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique. Paris: Seuil, 1987. P. 61-71.
[9] Abensour M. L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique. Paris: Seuil 1987.
[10] Prado Jr. B., Leiner P. C., Toledo L. H. de. Lembranqas e reflexoes sobre Pierre Clastres: entrevista com Bento Prado Junior // Revista de Antropologia. 2003. # 46 (2). P. 423-444.
[11] Clastres P. Entre silence et dialogue // L’Arc. 1968. # 26. P. 75-77.
[12] Текст был опубликован в качестве первой главы «Общества против государства».
[13] Маниглие полагает, что это обещание выполнимо благодаря структурализму Леви-Стросса, и с этим Кластр, по крайней мере раннего периода, не стал бы спорить.
[14] Maniglier P. La parent? des autres. (A propos de Maurice Godelier, Metamorphoses de la parente) // Critique. 2005. # 701. P. 773-774.
[15] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 597.
[16] Loraux N. Notes sur Fun, le deux etle multiple // L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique. Paris: Seuil, 1987. P. 158-159.
[17] См. примеры диагнозов в Moyn S. Of savagery and civil society: Pierre Clastres and the transformation of French political thought // Modern Intellectual History. 2004. # 1 (1). P. 55-80: «преувеличенная и мономаниакальная ненависть к государству»; «громогласная ненависть к капитализму»; «фанатичное недоверие к государству»; «параноидальная одержимость» среди прочих. Автор недалёк от обвинения Кластра в атаках а-ля Унабомбер.
[18] Clastres P. Chronicle of the Guayaki Indians. New York: Zone Books, 1998.
[19] Следует дополнить этот злобный правый альянс против 68-го теми представителями левого края интеллектуального спектра, которые недавно провозгласили поворот к некоей форме авторитарного универсализма, что говорит о том, что они мало чему научились, а забыли и того меньше.
[20] Ф. Шатле, цит. по: Barbosa G. A Socialidade contra o Estado: a antropologia de Pierre Clastres // Revista de Antropologia. 2004. # 47 (2). P. 532.
[21] . См.: «Коперник и дикари» (1969; гл. 1 «Общества против государства») и «Между молчанием и диалогом» (Clastres P. Entre silence et dialogue. P. 75-77).
[22] Коллективные жилые помещения индейцев яномами [прим. пер.]
[23] Clastres P. Archeology of Violence. P. 80.
[24] Падение неба [прим. пер.].
[25] Kopenawa D., Albert B. La chute du ciel. Paroles d’un chaman Yanomami. Paris: Plon, 2010.
[26] См.: Кастру Э. В. де. Кристальный лес. Заметки об онтологии амазонских духов // Опыты нечеловеческого гостеприимства: Антология. М.: V-A-C press, 2018. С. 122-152. Книга Копенавы и Альберта – красноречивое свидетельство (имеются и другие) того, что антропологии есть что сказать о яномами, помимо той летописи гнусных мерзостей – больших и малых, – в которые она была вовлечена со времён своего знакомства с этим народом.
[27] Аналогия с досократиками – не просто поэтическое решение; она оправдана тем, что Кластр неоднократно как сближает мысль шаманов гуарани с философией Гераклита и Парменида, так и противопоставляет их друг другу, заново формулируя традиционную проблему «перехода» от мифа к философии (которая, с его точки зрения, строго параллельна проблеме возникновения государства) в терминах контраста между судьбами оппозиции единого и множественного у гуарани и греков (Loraux N. Notes sur Fun, le deux et le multiple. P. 155-172; Prado Jr. B., Leiner P. C., Toledo L. H. de. Lembranqas e reflexoes sobre Pierre Clastres: entrevista com Bento Prado Junior. P. 423-444). Между делом можно заметить, что Кластр не рассматривал переход от мифа к философии как маркирующий преобразование теократического «восточного» деспотизма в «протоевропейскую» рациональную демократию.
[28] Делёз Ж. Переговоры. 1972-1990. СПб.: «Наука», 2004. С. 167, 166.
[29] Тот факт, что позднее его работа будет обвинена в экзотизации, свидетельствует одновременно о том, что Кластр был прав в куда большей мере, нежели мог подозревать, и о том, что он недооценил своих настоящих и будущих врагов.
[30] Clastres P. Archeology of Violence. P. 163.
[31] См. завершающий вторую главу меланхоличный вердикт – «Все остаётся таким, как прежде…», – начало долгожданного отрицания которого, вероятно, положено в упомянутой выше книге Копенавы и Альберта.
[32] См.: Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический проект, 2009.
[33] Леви-Стросс К. Предисловие к трудам Марселя Мосса // Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. С. 409-434; Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм? // Марсель Пруст и знаки. Статьи. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 1999. С. 133-174.
[34] Капиталистическое колдовство [прим. пер.].
[35] Pignarre Ph., Stengers I. La sorcellerie capitaliste: pratiques de desenvoutement. Paris: La Decouverte, 2005. P. 88.
[36] Ibid. P. 89.
[37] Pignarre Ph., Stengers I. La sorcellerie capitaliste. P. 89.
[38] Clastres P. Archeology of Violence. P. 209-210.
[39] Richir M. Quelques reflexions epistemologiques preliminaires sur le concept de societes contre l’Etat. P. 62.
[40] Clastres P. Archeology of Violence. P. 216.
[41] Clastres P. Entretien avec Pierre Clastres, auteur de la Chronique des Indiens Guayaki et de La societe contre I’Etat (14 December 1974) // L’Anti-Mythes. 1975. # 9. P. 22.
[42] Ibid.
[43] Делёз Ж. Переговоры. С. 226-233.
[44] См. главу 8 «Археологии насилия».
[45] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. C. 604-628.
[46] Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический проект, 2008. С. 143-485.
[47] Sahlins M. Stone age economics. New York: Aldine, 1972; Sahlins M. The sadness of sweetness: the native anthropology of Western cosmology // Current Anthropology. 1996. # 37 (3). P. 395-428.
[48] Wagner R. The Invention of Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
[49] Edwards. J., Strathern M. Including our own // Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 149-166; Strathern M. Kinship, law and the unexpected: relatives are always a surprise. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
[50] Kuper A. The Invention of Primitive Society: Transformations of an Illusion. London: Routledge, 1988.
[51] Clastres P. Archeology of Violence. P. 211-212.
[52] Wagner R. Symbols that Stand for Themselves. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
[53] Оценку траектории Гоше см. в: Moyn S. Savage and modern liberty. Marcel Gauchet and the origins of new French thought // European Journal of Political Theory. 2005. # 4 (2). P. 164-187. Комментатор, кажется, прощает Гоше всё, кроме его изначального греха, а именно – «юношеской» адгезии со зловредной позицией Кластра. См. также краткий пассаж Лефора (Lefort C. L’oeuvre de Clastres // L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique. Paris: Seuil, 1987. P. 202-203), который, двигаясь в совершенно ином направлении, противостоит аргументу Гоше (не называя его имени) о «конденсации» государства из примитивной внешней инаковости.
[54] Государство – это я [прим. пер.].
[55] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. C. 601.
[56] Там же. C. 278.
[57] Имеется в виду строка греческого поэта Архилоха: «Лис знает много секретов, а ёж один, но самый главный». Подробнее об этом см.: Берлин И. Ёж и лиса // История свободы. Россия. М.: НЛО, 2001. С. 184-269 [прим. пер.].
[58] Richir M. Quelques reflexions epistemologiques preliminaires sur le concept de societes contre l’Etat. P. 69.
[59] Ibid. P. 66.
[60] Lefort C. L’oeuvre de Clastres. P. 187
[61] Ibid. P. 184.
[62] Guattari F. Chaosophy. Texts and interviews 1972-1977. New York: Semiotext(e), 2009. P. 85.
[63] О молчании антропологического сообщества по отношению к Делёзу и Гваттари см.: Кастру Э. В. де. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М.: Ad Marginem, 2017; Castro E. V. de. Intensive Filiation and Demonic Alliance // Deleuzian Intersections: Science, Technology, Anthropology. Oxford: Berghahn Books, 2010. P. 219-254. Проницательный анализ антропологической составляющей «Анти-Эдипа» см. в: Vianna H. O Anti-Edipo e a antropologia. 1990. URL: http://www.overmundo.com.br/ banco/o-anti-edipo-e-a-antropologia.
[64] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. C. 364. О доозначающей семиотике см.: там же. С. 196-197.
[65] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. C. 364.
[66] Там же. C. 726.
[67] Clastres P. Archeology of Violence. P. 221-236
[68] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. C. 560, 729-730.
[69] См. одобрительный комментарий Кластра к идее Urstaat в: Guattari F. Chaosophy. P. 86. О «вне» и «внутри» см. стратегический обзор Делёза и Гваттари: «Закон Государства – это не закон Всего или Ничего (общества за Государство или общества против Государства), а закон внутреннего и внешнего» (Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. C. 602).
[70] Там же. C. 364-365.
[71] Не говоря уже о его увлечённости проблемой предполагаемого кризиса обществ тупи-гуарани, которые рискуют породить «самые смертоносные инновации» – государство и социальное неравенство. Об этом см. главы 2, 3 и 4 «Общества против государства» и главу 5 «Археологии насилия».
[72] Несмотря на детерминистские склонности самого Кластра.
[73] Castro E. V. de. Images of nature and society in Amazonian ethnology // Annual Review of Anthropology. 1996. # 25. P. 179-200; Levi-Strauss C. Postface // L’Homme. 2000. # 154-155. P. 720.
[74] Lima T. S. The two and its many: reflections on perspectivism in a Tupi cosmology // Ethnos. 1996. # 64 (1). P. 107-131; Castro E. V. de. Cosmological deixis and Ameridian perspectivism // Journal of the Royal Anthropological Institute. 1996. # 4 (3). P. 469-488.
[75] Для бразильской этнологии, которой обязана большая часть данных наработок, Кластр никогда не переставал быть главным собеседником (см.: Lima T. S., Goldman M. Pierre Clastres, etnologo da America // Sexta-Feira. 2001. # 6 («Utopia»)); см. всё ещё не опубликованную диссертацию: Sztutman R. (2005); она заслуживает специального упоминания, поскольку является обстоятельной и проницательной попыткой обновить идеи Кластра в свете текущих теоретических разработок. В англоязычном мире влияние Кластра испытали представители этнологического движения, связанного с Джоанной Оверинг, которая заняла феноменологическую позицию, сделав акцент скорее на аспектах совместного [gemeinschaftlich] бытия амазонских обществ, чем на их «бытии-для-войны». Среди французских амазонистов влияние Кластра обладает систематическим характером, но зачастую подавляется, а иногда и отвергается (хотя бы потому, что онтологическая анархия не вписывается в порядок вещей, приемлемый для местной академии).
[76] См. Clastres P. Archeology of Violence. P. 101-113.
[77] Известно, что кластрианская теория войны возникла благодаря прямым и косвенным контактам с яномами. Самым авторитетным источником здесь является всё ещё не опубликованная диссертация Брюса Альберта (1985). Альберт показывает, что в социокосмологии яномами именно смерть как биокосмическое событие продуцирует насилие как социально-политическое событие, а не наоборот. Альберт вписывает войну в концентрический градиент агрессии (как естественной, так и сверхъестественной), который прямо проецируется на социальное пространство. Это пространство структурирует себя и внутри, и снаружи вокруг амбивалентных отношений с неместными союзниками. Вспомним также обзор Бенту Праду Мл. (2003): «Согласно Кластру, коэффициент насилия, связанного с войной [у яномами], был почти равен нулю… Насилие возникало, скажем так, по ту стороны войны. И это происходило во время празднеств – прежде всего, когда гости были дальними союзниками, – в ходе которых одно племя принимало другое (союзное) на праздничном пиру. Как если бы именно дальний союзник, а не враг, являлся подлинным объектом социального насилия». Скорее тернаризм (ternarism) и кроматизм (cromatism) Другого (а значит и Себя), нежели масштабный бинаризм Я и не-Я.
[78] Clastres P. Archeology of Violence. P. 121.
[79] Но это также результат «одержимости» автора профетизмом тупи-гуарани, который подталкивает к тому, чтобы говорить об автономизации религиозного дискурса.
[80] Verdier Y. Prestige de l’ethnographie // L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique. Paris: Seuil, 1987. P. 31.
[81] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. C. 197. См. парадигматическую монографию Карнейро де Кунья о дизъюнктивных отношениях между живыми и мёртвыми в обществах низин: Carneiro Da Cunha M. Os mortos e os outros: uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Krahó. São Paulo: Hucitec, 1978.
[82] Но, разумеется, если то, что мы едим, становится частью того, кто мы есть, мы также становимся тем, что мы едим. Хищничество редко бывает не-амбивалентным.
[83] Хосе Антонио Келли – другой этнограф, специализирующийся на яномами, – прорабатывал как раз эту связку. Я благодарен ему за дискуссии.
[84] Этот момент не ускользнул от внимания Лефора (Lefort C. L’oeuvre de Clastres. P. 201).
Автор перевода: Денис Шалагинов
Оригинальный текст: Eduardo Viveiros de Castro. The Untimely, Again // Pierre Clastres. Archeology of Violence. Semiotext(e), 2010. P. 9-51.
Выходные данные: Эдуарду Вивейруш де Кастру Несвоевременный, вновь // СТАДИС. 1(1). 2019. С. 55-79.