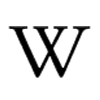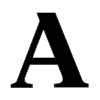Принципиальная непознаваемость Бога является одним из центральных постулатов авраамического монотеизма: божественная сущность (ουςια) остаётся непостижимой для человека как существа тварного.
Максим Исповедник настаивает на этом, предлагая утешиться тем, «что находится окрест Его», – это Вечность, Беспредельность, Благость, Премудрость, Сила и другие сугубо человеческие характеристики, находящиеся в рамках катафатического богословия. Некоторым отступлением от авраамического запрета на богопознание в христианстве можно считать традицию апофатического богословия. Дионисий Ареопагит пишет о «воссоединении с Неведомым посредством бездеятельности всякого ведения». «Познавать сверхумно, ничего не зная», – мы распознаём в этом положении Дионисия плотиновский переход от Ума к Единому. В неоплатонизме рационализм гармонично сочетается с иррационализмом: индивидуальный ум, следуя путём познания, доходит до предела своих возможностей, а затем сталкивается с Единым, которое пребывает по ту сторону рациональных диалектических схем. Этот принцип продемонстрирован в диалоге Платона «Парменид», в первом тезисе, который стал сакральным для Плотина и других неоплатоников. В христианстве мы наблюдаем забвение метода рационально-иррационального познания – два принципа вступают в конфликт. Считается, что Восточное христианство более мистично, чем латинское. Действительно, Восточное богословие немыслимо без такого понятия, как «обожение», но это вовсе не означает, что данная традиция отступилась от постулата авраамизма о непостижимости Бога, ведь обожение подразумевает сопричастность божественным энергиям (ένέργεια), но ουςια остаётся непостижимой.
Максим Исповедник настаивает на этом, предлагая утешиться тем, «что находится окрест Его», – это Вечность, Беспредельность, Благость, Премудрость, Сила и другие сугубо человеческие характеристики, находящиеся в рамках катафатического богословия. Некоторым отступлением от авраамического запрета на богопознание в христианстве можно считать традицию апофатического богословия. Дионисий Ареопагит пишет о «воссоединении с Неведомым посредством бездеятельности всякого ведения». «Познавать сверхумно, ничего не зная», – мы распознаём в этом положении Дионисия плотиновский переход от Ума к Единому. В неоплатонизме рационализм гармонично сочетается с иррационализмом: индивидуальный ум, следуя путём познания, доходит до предела своих возможностей, а затем сталкивается с Единым, которое пребывает по ту сторону рациональных диалектических схем. Этот принцип продемонстрирован в диалоге Платона «Парменид», в первом тезисе, который стал сакральным для Плотина и других неоплатоников. В христианстве мы наблюдаем забвение метода рационально-иррационального познания – два принципа вступают в конфликт. Считается, что Восточное христианство более мистично, чем латинское. Действительно, Восточное богословие немыслимо без такого понятия, как «обожение», но это вовсе не означает, что данная традиция отступилась от постулата авраамизма о непостижимости Бога, ведь обожение подразумевает сопричастность божественным энергиям (ένέργεια), но ουςια остаётся непостижимой.
Это отличает монотеистический апофатизм от неоплатонического и ведантийского. Веданта – наиболее древняя апофатическая традиция. Знаменитая сакральная фраза «Neti! Neti!” (Не то! Не То!) выражает отрицание любых качеств Брахмана, который, говоря языком Западной философии, является одновременно и трансцендентным, и имманентным своему творению, что не более парадоксально, чем описание Единого в «Пармениде». Не меньшие трудности вызывает христианское представление о разрыве Творца и творения: Бог или противополагается сущему как тварному и тогда мыслится как великое Ничто, или же рассматривается как единственно сущее в противоположность миру, тленному и зависимому в своём бытии, – тогда ничем становится мир. Исходя из этого противоречия, Максим Исповедник рассуждает следующим образом:
Оба этих суждения о Боге – я подразумеваю обозначения Его как бытия (τό είναι) и как небытия (μη είναι ) – по праву допустимы, и ни одно из них невозможно в строгом смысле слова. Оба справедливы, поскольку утверждение о том, что Он существует, имеет основание в Нём как Причине сущих, а отрицание Его бытия справедливо, поскольку Он превосходит всякую причину сущих. И, наоборот, ни одно из этих суждений недействительно, потому что они не высказываются относительно самой сущности и природы того, что составляет содержание бытия исследуемого (Mystagogy. Введение (PG 91 664b – с)).
Из этого следует, что Божественное Ничто является противоположностью и причиной сущего, а человек, как сущее, не может перебросить мост и познать не-сущее. Христианские богословы вновь и вновь обращаются к ветхозаветному тексту, вспоминая духовный опыт Моисея:
И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Моё не будет видимо [тебе] (33:19-23).
Здесь берёт начало богословское различение сущности и энергий: энергии Бога познаваемы, они отвечают Его катафатическим характеристикам в отличие от самой сущности (не-сущности) Бога, для характеристики которой подходит лишь одно, крайнее для познания, человеческое понятие – Ничто. Григорий Низианзин вторит Моисею, настаивая на принципиальной непознаваемости божественного естества:
Я шёл с тем, чтобы постигнуть Бога; с этой мыслью, отрешившись от вещества, погрузившись, насколько мог, сам в себя, восходил я на гору. Но когда простёр взор, едва увидел сзади Бога и то покрытого камнем, то есть воплотившимся ради нас Словом. И приникнув несколько, созерцаю не первое и чистое естество, познаваемое Им самим, то есть самой Троицею; созерцаю не то, что пребывает внутрь первой завесы и закрывается херувимами, но одно крайнее и к нам простирающееся (Слово 28.3 (PG 36 29а-b)).
Следует отдельно рассмотреть исихазм. Данная традиция наиболее близка идее практического богопознания: здесь мы обнаруживаем духовную психотехнику, свидетельства о телесном переживании божественного присутствия. Можно предположить, что ранние исихасты делали акцент на психотехнике ещё больше, чем свидетельствует о том Палама, ведь ему приходилось защищаться от нападок и чрезмерно умалять глубину расхождения исихазма с авраамическим агностицизмом. Православный монах Варлаам Калабрийский, впоследствии принявший католичество, нападая на исихастов, приводит интереснейшие свидетельства:
…Они говорили о каких-то диковинных разъединениях и сочетаниях ума с душой, о различении красных и белых цветов, о каких-то умных водах и исходах, происходящих через ноздри вместе с дыханием, о каких-то колебаниях, возникающих в области пупка, и, наконец, о соединении нашего Владыки с душой, происходящем в пупке так, что оно ощущается сердцем с полной достоверностью (Варлаам, Письмо 5(ed Schiro, 323-324)).
Мы не будем сейчас вступать в давний спор о том, похожи ли практики исихастов на йогу или имеют принципиальные отличия. Нас интересует отношение подвижников к богопознанию. Дионисий Ареопагит писал о том, что Бог может быть познан только с помощью сверхсущественного знания. Палама настаивал на возможности познания энергий Бога, сущность которого остаётся недоступной. Что касается западного христианства, то здесь нас интересует томизм, ведь Аквинат говорил именно о познании сущности (esse) Бога. Проблема в том, что Аквинат умалил саму сущность, а не способность человеческого познания, что предприняло восточное христианство. Фома Аквинский, как известно, опирался на Блаженного Августина и Аристотеля, поэтому Бог томизма напоминает аристотелевский Ум-перводвигатель, которому можно уподобиться с помощью интеллектуальной деятельности. Идея Бога как Ничто вообще отсутствует у Фомы Аквинского; Бог есть причина бытия и бытие как таковое, всё обладает бытием только благодаря божественной воле. Если Палама осознаёт солнечную недоступность Бога для взгляда ума и ограничивает на основании этого возможность познания энергиями, то Аквинат ограничивает саму природу Бога – это уже не Солнце, на которое нельзя смотреть человеческими глазами, но доступный для рационального познания объект. При этом Аквинат отрицал возможность человеческого ума стать единосущным Богу, человек вообще не может самостоятельно двигаться в направлении Божества, но может лишь снискать благодать по божественному волеизъявлению.
Насколько же отличается от подобного опыта экстатическое слияние с Единым в неоплатонизме и слияние с Брахманом в Веданте: Tat Tvam Asi (Ты Есть То) – знаменитая формула, означающая отождествление Атмана с Брахманом. Не надо забывать, что и в индийском богословии присутствовала школа, настаивающая на неслиянности творца и творения, на отдельном существовании душ даже после смерти. Так же неоплатоник Ямвлих отрицал возможность субстанциального соединения души и Бога. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что индийские последователи двойственности достаточно враждебно относились к адвайтистам. Но только в монотеизме возник феномен настоящей войны с идеей и практикой абсолютного богопознания. Первыми под удар попали гностики с идеей возвращения в плерому: через огдоаду, минуя архонтов нижних миров, дабы слиться с Несуществующим Богом, который из Ничто сотворил несуществующий мир, – подобная форма духовности крайне противоположна авраамической традиции. Гностическая плерома отрицает возможность дискретности, подобно Единому неоплатонизма и Брахману Веданты, – все эти божественные имена не поддаются позитивным характеристикам, но исключают апофатически возможность какой-либо двойственности и личного бессмертия, как его понимают в экзотерических традициях.
Надо заметить, что у Оригена и его толкователей мы ещё находим отголоски философского представления о бессмертии: бессмертна лишь духовная часть души, но не личность в целом. Позднее философское учение о бессмертии было сознательно отвергнуто христианскими богословами, восторжествовала идея бессмертия личности, которой придали качества неделимой субстанции, а загробное существование получило мирской ландшафт. Если обратиться к исламу и арабской мысли, то интересным может показаться замечание Аль-Фараби о том, что бессмертны не все, но только единицы. – И вновь бессмертием наделялась лишь духовная часть души. Но слишком человеческим представлениям о природе духовной жизни не суждено было раз и навсегда замести следы не-сущего: настоящий ренессанс Ничто мы наблюдаем в учении Мейстера Экхарта; он пошёл дальше Дионисия Ареопагита, который оставил небольшой зазор между Божеством и человеком, – Экхарт поместил Ничто внутрь человека. Можно смело утверждать, что откровение Экхарта – это самое Восточное откровение христианского Запада. Поздние мыслители Европы пойдут ещё дальше в направлении Ничто, но уже сбившись с религиозного пути, что приведёт Запад к гибели.
Гностики, манихеи, альбигойцы, катары – многое разделяет эти эзотерические учения: некоторые из них были сделаны государственными религиями (манихейство), другие превратились в антисистемы, противостоя любой мирской власти, но их объединяет одно – представление о возможности богопознания и особый акцент на соответствующих практиках. Что касается так называемых антисистем, то следует рассмотреть причины возникновения этого феномена. Гностицизм, несмотря на своё Ирано-Египетское происхождение, стал парадигмальным учением Запада, что было продемонстрировано нами в статье «Несчастнейший и его гнозис». В гностических течениях наиболее ярко отразилась изначальная трагедия Запада и христианской цивилизации в целом – это конфликт Луны и Солнца. Луна – символ мирской власти, она не имеет собственного света, но отражает свет Солнца. Так, в идеальной монархии Данте великий монарх должен подражать Уму-перводвигателю (Данте основывает свою доктрину на аристотелизме). В буддизме лунный серп, обращённый рогами вверх, символизирует относительную истину; упрощая систему абхидхармы, это можно пояснить следующим образом. Мир есть иллюзия, что-то принципиально преходящее, несубстанциальное. Существование должно преодолеть, постигнув не-сущее (нирвана), которое одновременно может мыслиться единственно сущим в отличие от мира форм (здесь мы сталкиваемся с тем же противоречием, что и в христианском богословии). Смысл дихотомии относительной и абсолютной истины заключается в том, что внутри этого мира-иллюзии есть такие иллюзии как мираж или верёвка, показавшаяся змеёй. Не умея отличить такие иллюзии от истины (которая с точки зрения Абсолюта тоже иллюзия), невозможно даже начать практику пути Будды. На социальном уровне это соответствует тому положению, что для реализации дхармы нежелательны условия анархии. Поэтому в буддизме и в веданте, при всей их мистичности, разработаны сложнейшие системы логики как самостоятельные учения. Солнце, покоящееся на луне, – это символ подчинения светской власти жречеству, рационального закона иррациональному экстазу, символ главенства Солнца и Ничто над Луной и сущим. Солнце наиболее полно отражает принцип не-сущего, ибо на него нельзя посмотреть. Только на вечерней и утренней заре оно позволяет остановить на себе взгляд, что соответствует началу и концу времён, когда Высшее открывается человеку. Взгляд – это символ познавательной способности как таковой. Принцип взгляда был наиболее полно реализован в картезианской философии, в живописной перспективе, в планировке западноевропейских городов с их прямыми улицами. В том и заключается трагедия Запада, что взгляд был обращён на сущее, а не-сущее, Бога, отодвинули за пределы действительных человеческих устремлений, оставив лишь Завет.
Так же одно – это солнце, ибо оно есть источник света, на который нельзя смотреть прямо, а другое – это свет, который исходит от него на землю, ибо он видим и на него можно смотреть благодаря действию (ένέργεια) Божией премудрости и любви… точно так же и лице Христа сияет ясно, как солнце, а свет делает светлыми одеждами, которые становятся блестящими благодаря причастию Божественному свету. Иоанн Дамаскин (Гомилия на Преображение, 12 (445-450))
В связи с этой аллегорией Иоанна можно вспомнить даосскую практику наблюдения светила: адепт постепенно увеличивает время созерцания рассвета (когда на солнце ещё можно смотреть); в конце концов, даос достигает способности смотреть на него и днём, не обжигая глаз, что сопровождается удвоением зрачков.
Духовная власть Запада отказалась от своей функции: быть связующей нитью сущего и не-сущего, чем были брахманы, бодхисаттвы и «чистые» (монашествующие) манихеи. Последние передали знание катарам и альбигойцам – истинным жрецам Европы. В манихействе имел место символ двух кораблей. Два корабля – это Луна и Солнце. Прирост Луны есть не что иное, как переправление с Земли на Луну детей света. Затем Луна начинает убывать, что означает переправление сынов света на второй корабль – на Солнце.
Гностики, манихеи, катары, альбигойцы, как носители Знания, как жрецы не-сущего, обеспечивающие связь мирского и божественного, согласно традиционному социальному порядку, должны были занимать привилегированное положение брахманов, но вместо этого объявлялись вне закона, что породило гипертрофированное отрицание гностиками всего сущего, которое осуждалось Плотином во II Эннеаде. Разрыв связи сущего с Ничто, явленный в учении об абсолютно трансцендентном Боге, поставили официальное духовенство в нелепое положение: божественность Папы утверждалась не вследствие субстанциального единства с Высшим, как в случае с патриархами буддизма, но только номинально, по букве закона. Жречество становится необязательным рудиментом, если утрачивает функцию связи сущего с не-сущим. Религия нравственного совершенствования – это естественное следствие отрицания возможности богопознания. Такой религией стал протестантизм, последним пророком которого нашёлся Эммануил Кант, объявивший и последовательно доказавший принцип тотального агностицизма: человек находится в когнитивной тюрьме и из этой тюрьмы ему выйти не суждено. Следующий вывод созревал ещё со времён юности агностического богословия: взгляд следует направить на сущее, ведь Бог Авраама требует лишь соблюдать Завет. Если Восток затрачивает всю познавательную мощь на познание Ничто, парадоксально бросает взгляд за пределы сущего, то Запад, следуя богословам, запретившим смотреть Богу в лицо, обратил взгляд на сущее, что спровоцировало взрыв материального прогресса. Западная революция Луны – отказ мирских властителей подчиняться нерадивым жрецам – была вписана в книгу судеб христианскими богословами и вызревала сотни лет. Наконец, Кант завершил процесс кропотливой реставрации мирового яйца (по Генону), заделав познавательную брешь, открытую Дэвидом Юмом. Последний обнаружил бездну в самом субъекте, а точнее – в отсутствии всякого субъекта. Если Ничто гнать в дверь, то оно полезет в окно: Юм, по наитию какого восточного демона?, стал пророком абхидхармы, в ту пору закрытой для европейского ума за семью печатями не зачатой ещё буддологии. Кант, меченосный серафим сущего, был разбужен рёвом черепастого тибетского идама, чьи пламенные отсветы мерцали в «Трактате о человеческой природе». Кёнигсбергский Философ попытался закрыть дыру в сущем идолищем трансцендентального единства апперцепции – этот голословный голем своим подспудным эмпиризмом (насколько эмпиризм доступен немцу) напугал бы и Зенона, и Парменида, поэтому уже Шопенгауэр, философ слишком милостивый к своим предшественникам, вежливо восхищаясь Кантом, вытащил магические печати изо рта голема, вновь разбив иллюзию целостности индивидуального Я, объявив автономию воли и разума. Шопенгауэра не понял никто, он и сам был не готов к собственным откровениям: человек Запада уже слишком сильно укоренился в сущем и в неделимой атомарности Я. На Востоке пессимизм – это незначительное начало пути, необходимое разочарование в земном счастье, после чего следует многолетняя психотехника, слишком однообразная и безрадостная с точки зрения антропоцентризма, просто выметание из избы вечности мусора сущего. Запад остановился на пессимизме – лишённый позитивных следствий, он выродился в нравственный нигилизм, никакого отношения не имеющий к восточному Ничто. Самой страшной ошибкой Шопенгауэра было отождествление Ничто с небытием, в котором он видел подлинное успокоение. Пугало западного человека – сон без сновидений или состояние комы, отсутствие перцепций – в индийской религиозной философии считается совершенно профанным состоянием, которое стоит в одном ряду с бодрствованием и обычным сном. Божественное Ничто Востока не имеет никакого отношения к небытию, о чём не знает дьякон Кураев. Скорее, вслед за христианскими богословами и Ланкаватара-сутрой, его можно именовать единственно-сущим в противоположность не-сущему миру – это кажущееся противоречие мы уже обозначили вначале статьи. При этом осознание собственной конечности как конечности субстанциального Я (бытие к смерти) имеет экзистенциальное значение: индивидуальный ум, сталкиваясь с собственной конечностью, прозревает Единое – здесь сходятся Плотин и Хайдеггер.
Работа Шопенгауэра сказалась в сфере искусства и литературы: едва ли можно найти хоть одного гения конца 19-го-начала 20-го века без печати его волюнтаристского откровения. Религиозно-пророческий характер европейской культуры этой великой эпохи обязан новым, шопенгауэровским открытием Ничто. Помимо этого, здорового, плодотворного движения в Европейской культуре, нарастала противоположная тенденция: движение в сторону Ничто в сфере сущего – научный прогресс эпохи модерна.
С карликом Солнца не так-то просто было разделаться – самооскоплённое жречество цеплялось за власть. Против культуры нарисованного светила выступила целая армия новой религии спасения в сущем: Маркс, Спенсер, Дарвин, Бакунин (самые талантливые) и сотни других воинов материи. Контринициация расправила крылья: теперь сущее стало сферой духовного делания. С помощью манипуляций с материей пожелали достичь бессмертия, счастья, равенства, братства, свободы. Потрясающая пародия на Бога примордиальной традиции: в Нём все равны, ибо Единое не подразумевает различий, зазоров, градаций внутри себя, и, соответственно, свободны, а союз подвижников, стремящихся обрести Бога, всегда именовался братством; единство, равенство, братство – эти принципы стали искать там, где их не может быть в связи с природной организацией мира. Мир следовало изменить, чем и занялась наука модерна, обратив взгляд в сущее.
Условно можно выделить два ничто, говоря строже – два вида движения к не-сущему. Первое ничто – это аристотелевский строительный лес, hyle, платоновская хора, пракрити в традиции санкхья. Сущее состоит из духа (формы, идеи) и материи, но ни дух (в своём абсолютном начале), ни материя не являются сущим. Духовная практика в различных традициях гностического толка состоит в отделении духа (света) от тьмы материи. Манихеи использовали образ вычёрпывания: свет надо вычерпать из тьмы материи. Пурушу (всемирная душа в санкхьи) необходимо отделить от пракрити. В буддизме этот принцип несколько изменён: духовным считается только не-сущее (нирвана), а всё остальное представляет собой однородную психофизическую массу, из которой необходимо катапультироваться в не-сущее с помощью дхармы Будды. Знаменитая формула герметического корпуса «Что вверху, то внизу; что внизу, то вверху» означает лишь то, что субстратом и материи, и духа является всё то же Единое-не-сущее, кроме которого, разумеется, вообще ничего нет и быть не может. Даже неведение (авидья) не может быть чем-то онтологически иным: Единое не подвинется, оно ничему не уступает место рядом с собой. Только каббалист Ицхак Лурия придумал норку в Боге, которую Он сам в себе раздвигает для помещения мира… Несмотря на эту однородность, существует условная градация – её наличием человеческое бытие отличается от Божественного-не-сущего. Тот же Сorpus Hermetiсum предлагает раз и навсегда определиться с выбором направления: служить материи или Духу. Материя – это бледнейшая тень Единого или первого Ума – таков взгляд неоплатонизма и герметизма. Полностью отрицая материю, мы лишаемся возможности созерцать призрак Божественного-не-сущего; утверждая её как единственное и отрицая не-сущее, мы обречены на регресс к prima materia, ко второму не-сущему, которое есть изначальные воды, хаос. Разумеется, двух ничто быть не может, отличие обнаруживается только на уровне существования, в сфере действия человеческой энтелехии, некоей изначальной заданности к высшему: движение вверх имеет целью неподвижный источник движения – Божественное-не-сущее; движение вниз не имеет цели, оно бесконечно – от мужчины к женщине, от человека к животному, от животного к минералам (надо заметить, что отрицание реинкарнации (или метемпсихоза) в авраамическом монотеизме, наряду с отрицанием возможности богопознания, убило мотивацию к духовному деланию, освободив место для работы с сущим) и т.д.
Чтобы проследить до конца духовный путь Запада, его трагическую судьбу, ещё раз подойдём к нему со стороны Востока, отметив основные вехи. В индийской религиозной философии, как в буддизме, так и в классических школах, человек рассматривается как нечто составное: манас, джива, будхи, атман или поток дхарм (сантана) в совокупности дают то, что условно называется человеком. Различие между буддизмом и ведантой заключается лишь в методе, ибо Атман есть такое же не-сущее, как и потухание (нирвана), оба понятия базируются на апофатизме. На Западе Дэвид Юм взорвал субстанциальное Я, повергнув в ужас всех «набожных» христиан, и сам, перепугавшись, попытался выстроить этику на пустоте. Кант, меченосный серафим сущего, попытался залатать бездну раскрывшегося Ничто, кое-как склеив личность, он вложил в рот этому голему табличку с волшебной надписью: «Трансцендентальное единство апперцепции». Шопенгауэр вновь развалил этого голема, в чём уже не было надобности: наука давно ухватилась за гнозис не-сущего и всерьёз принялась за деконструкцию мира вещей в поисках скрытой истины… Нагарджуна и Шанкара могли увидеть подобный перенос взгляда от божественного к материальному только в страшном сне (благо, просветлённые не видят снов), ибо расщепление атома личности автоматически провоцирует взрыв и бросок от сущего к не-сущему – это и есть цель гностических духовных практик. Подобному предельному опыту предшествует переживание абсолютного страха, который символически описан как встреча с дьяволом или Марой – князем мира сего, мира сущего, откуда адепт пытается выйти. Соответственно расщепление материального атома, как следствие абсолютной направленности познания на физическое, спровоцировало нормальный физический взрыв. – Если психический взрыв нивелирует иллюзию отдельного Я, то атомная бомба грозит истреблением всечеловеческого субъекта. Надо полагать, что речь идёт об одной и той же энергии, действующей в разных сферах бытия и с противоположными телеологическими следствиями.
На вечерней заре западного мира, исторические границы которого можно очертить от Трои до Нюрнберга, от Гомера до ненаписанного ещё эпоса, прозорливые умы смогли убедиться, что ирония не является прерогативой человека. Так, на знамёнах национал-социалистов мы видим обратную свастику, что символизирует солнечный принцип (не-сущее), обращённый к своей противоположности. Это знамя стало одновременно символом и карающим перстом того процесса, который спровоцировала вся европейская наука, сосредоточившая взгляд Познания на материи. Но пиком исторической иронии стал факт истребления народа, который впервые запретил богопознание.
Антон Заньковский