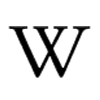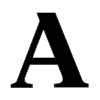Натэлла Сперанская. Без кожи. Памяти Габриэль Витткоп. Часть третья
Человек, который имеет намерение со мной общаться, должен отучить себя задавать вопросы, имеющие отношение ко мне непосредственно. Любые другие — сколько угодно.
Мне никогда не придёт в голову рассказать, как я впервые вошёл в тесную вагину умершей три часа назад женщины, как колотилось моё сердце, когда я думал, что оставил улики и завтра за мной придут. Скрываясь за маской писателя, я мог делать всё что угодно, не вызывая никаких подозрений.
Мир расцветает как белый лотос, чтоб через минуту уподобиться смашану, где я посыплю своё тело пеплом от костров и последую за Бхайравой, притяну майю за волосы, вопьюсь в её уста свирепо, — целуя, как убивая, обнимая — как сворачивая шею. Чтобы прозреть и снова увидеть мир как белый лотос. Приходит день, когда говорить становится легче, даже если говоришь ты о четырёх столпах своего мировоззрения. Ты становишься прочен, силён и того же ждёшь от других, зная, как наивны и опасны твои ожидания. Глыбы, с которыми ты играешь, их либо раздавят, либо напугают, как не сможет напугать даже тигр и выстрел. Разве быть мне Заратустрой, что всё ещё ждёт прихода Сверхчеловека? Нет же. Заратустра сам им станет. У него почти получилось.
Тяжело осознавать, что два тысячелетия привели большую часть человечества к стадному состоянию, где оценки неизменно ставятся согласно прежним представлениям, искажённым по своей сути; никакого понимания смены Эонов среди масс. Бездумно повторяемые слова об эпохе Водолея больше всего похожи на смену вывески в магазине, замеченную его постоянными покупателями (достаточно запомнить название). Прослеживается чёткое разделение на представителей высшей касты, людей будущего и особей, оставшихся на той ступени духовной эволюции, где следовало бы разместить саранчу. Подводить итоги и говорить об этом во всеуслышание меня побуждает не высокомерие, а строгая необходимость. Наверное, я даже испытываю чувство сожаления, что дела обстоят именно так, но это не значит, что у меня появился повод смягчать обстоятельства и идти против данности. Время будить королей. Время пустить струю крови во все горькие вина. Пора готовить новый Ренессанс, очищая культуру и искусство от всего жалкого, рабского, окостеневшего. Я вношу свой вклад в дело нового Эона, ибо такова моя воля. То, что мне необходимо — это возможность коренного преобразования уже имеющихся структур, в случае же их безнадёжного состояния — возможность полного разрушения, с шиваитским размахом — во имя того, чтоб стать созидающим. Срок моего пребывания здесь весьма ограничен, исходя из чего, я считаю нужным избегать бесполезных движений. В какой–то момент Жорж Батай дошёл до прямого отождествления себя с Фридрихом Ницше. Когда я сбрасываю маски, мне даже не приходится…
Я старею от мыслей и подрисовываю нули к двум знакам, которые больше не означает мой возраст. Чтобы не думать, мыслитель забивает в висок длинный гвоздь, но мозг пульсирует где–то над головой, бросая вопросы, начинающиеся с буквы «к»: когда, как куда, который, кончено? Смех выделяется из меня при ответе «да», выделяется наполовину с кровью. Я окунаю пальцы в делирий и рисую сына. В комнате появляется Она, мои соски набухают, и на выдохе я вплетаюсь в её позвоночник, чтобы взорваться внизу живота зачатым плодом. Я вскормлен стихотворением «Падаль» и бесчисленными анаграммами Уники Цюрн, вечерами я беру пистолет и выхожу в город, — разве не отрадно ощущать, как прохожий становится сочным от страха: его кожа влажнеет, его промежность начинает жить отдельно от имени, — и тому виной Я. я превращаю людей в эксгибиционистов и помешанных, слабые ломаются об меня, сильнее — возносятся, те, что между, определённо, стоят перед выбором, — только это Мой выбор, и я заключаю: «Кончено». Слово бескомпромиссное, как нож гильотины. Слово, сказанное Каином, купающимся в крови своего брата. С тех пор, как я изнасиловал себя тонкими шутками, мне всюду мерещатся дети. Дети с лицами стариков. Нас объединяет только одно — серьёзность, с которой мы смотрим на мир. Должно быть, на нас он смотрит с ухмылкой.
Современного человека всё ещё легко шокировать. Для этого достаточно только произнести: «танатофилия», «отрезанные яички» или «дуло вставленное во влагалище», как даже самые маленькие глазки воззрятся на вас, увеличившись втрое. Да, я ещё и любитель пошутить. Мне всегда казалось забавным, что, перемежая свои скабрёзные шутки настоящими откровениями, я ничем не рискую, — ни один болван так и не понял, что я собой представляю. Решение перестать печататься возникло нежданно. Тексты моих произведений стали сообщать обо мне непозволительно много, а мне следовало соблюдать осторожность. Но единственной причиной не ограничивалось. Я уходил в безмолвие не потому, что исписался, как чесали языками неудачники от журналистики, — оказавшись в сферах, где главенствуют Идеи, я понял, сколь тщетны слова, которыми пытаются их выразить. Молчание, знакомое разве что Малларме. Несколько раз я порывался сесть за написание книги о некрофилии, но черновики летели в камин. Всё, чем я питал страницы своих тетрадей, напоминало исповедь. Это глупейшая из затей. Человечество не батюшка–исповедник, а я не христианин, и к тому же, не чувствую за собой никакой вины. Вы зовёте меня извращенцем и убийцей? Конечно, я не могу отнять у вас это право. Сам я считаю себя человеком, который вышел за границы человеческого; то, что для вас извращение, для меня — проявление любви не только ко всему живому, но и к мёртвому, брошенному вами в деревянный ящик. И я не убиваю без того, чтобы не освободить, как бы вам ни хотелось наградить меня позорным клеймом душегуба. С раннего детства я удивлялся христианскому культу смерти: миллионы людей вставали на колени перед распятым покойником, а иные верили в воскрешение во плоти, не смотря на весь абсурд сего предположения. Но христианство не приводит ни к освобождению от сансарного, двойственного восприятия, ни к осознанию себя единым с богом через переживание своей истинной природы, оно не делает вас сильным и бесстрашным. Христианство предлагает лишь роль раба. Чья некрофилия, в таком случае, деструктивна?
Большинству проще отступить перед загадкой смерти и, вообразив её уродливой старухой или скелетом с косой, состроить гримасу отвращения и сделать вид, что это их не касается. Чезаре Павезе, должно быть, знал, как Она прекрасна, раз представлял Её с глазами любимой женщины. Тот страх, что заставляет людей осуждать влечение к мёртвой плоти, зиждется ещё и на старом представлении о смерти, персонифицированной как нечто отталкивающее, лишённое элемента эротизма, который ей, поверьте, присущ не в меньшей степени, чем самой жизни. Как прекрасны они, будто погружённые в сон, в маленькую смерть, приходящую к вам ночью. Стасис. Святая неподвижность. Остановленное, как на фотоснимке, время. Спят, как после любовной муки, схватки, утолив свою жажду слезами тех, кто остался. Впервые прикоснувшись к коже мёртвой женщины, я испытал священный трепет, впервые погружаясь в сухое лоно, тесное лоно, незрячее, стылое лоно, похожее на древний грот, я ощутил себя путником, что бредёт в темноте, держа в руке горящую свечу. И пока живое соединено с неживым, пока дыхание и стоны срываются в смерть и безмолвие, пламя не погаснет. Не мои это бёдра двигались в такт биению сердца, — это я бежал за тем, чего больше всего на свете боялся. За смертью. Я побеждал её раз за разом, выплёскивая своих нерождённых детей в бездну женской промежности. Я смеялся, глядя на ослиный лик Иалдабаофа, полагавшего, что я куплюсь на идею размножения.
Встречая свою тень на пороге продления (жизни, мысли), ты вновь касаешься небытия, рельеф твоих губ и ладоней на какой–то миг бледнеет той особой бледностью, что отличает мёртвое от живого, — и тем ты перерождаешься из «Я» в «Не–Я», а потом выбираешь, остаться или вернуться домой. Ты выбрал второе. Владея искусством рокировки, ты тасуешь жизни как колоду карт, неизменно ставя на кон свою собственную, едва ли задумываясь о проигрыше. Тебе не грозит банкротство, ибо Диавол в сговоре с твоей ложью человеку. Когда не умираешь ты, умирает другой. Всё проще, чем поцелуй через перчатку. Одновременно всё настолько сложно, что никто не поймёт тебя, если ты позволишь себе заговорить.
Мне привиделись притчи–ключи богомилов, или то был просто сон с выпавшими зубами и коричневыми вишнями грехов. Как вариант: это видения коанов и беззвучные хлопки ладоней по закрытым векам.
Когда потребность увеличить боль станет непереносимой, я вновь возьму в руки «Тёмную весну» Уники Цюрн, окунусь в её беспристрастный анализ белого безумия и узнаю свою муку в её «жасминовом человеке». Читать эти строки всё равно, что стоять на карнизе, борясь с искушением броситься вниз, зашив губы чёрными нитями. Цюрн так и сделала, только нити были прозрачными, как воздух, что не дал опоры. Нельзя называть падением самоубийство человека, который успел вознестись задолго до последнего шага. Уника Цюрн упала в небо, по–другому просто не могло быть. Даже анаграммы этой талантливой женщины, как зеркала, отражают всё её неприятие удушливо–предсказуемой реальности, одинаково серой для слепого музыканта и безрукого палача, — Цюрн не была эскаписткой, она бежала ото лжи к истинному видению мира; живя на тонкой границе, которая отделяет банальность и пресность «всех» от вечно подвижной и пугающей правды Избранных, Уника не смогла сохранить свою тайну, и скудоумное общество повесило на неё ярлык помешанной. «В эту книгу вошли её путевые заметки из путешествия в безумие», — говорится в аннотации. Это действительно так. Вначале я был шокирован тем, с какой отстранённостью Уника Цюрн наблюдает за событиями своей жизни, — наблюдатель, конспектирующий всё, что происходит внутри и вне человека, который есть он сам. Эта женщина поражает.
Эту женщину я бы никогда не убил.
Я смотрел на желтизну листьев, и мне в голову пришло избитое сравнение с кострами, объявшими город. Но как человек с менталитетом агхори, я называю это осенним смашаном.
Я связал свои руки. Несколько страниц жизни будут прочитаны без содроганий. Мне нужно о многом с вами умолчать. И я буду молчать, пока не явится Слово.
Мне кажется, вчера оно явилось.
Я видел сон. Я слышал голос своей следующей жертвы.
Внутри меня все восемь тысяч голосов вошли в чертоги немоты, и лишь движениями рук я создаю теневые фигуры: на той стене, за которой тебя по–прежнему нет. Играть на арфе рядом со спящим ребёнком, не замечать ни света звёзд, ни тех разочарований, что посещают нас под убывающей луной, писать письмо придуманным пером, овеществлять все мыслеформы старцев. Сжатыми в кулаки словами я подписываю открытки, отправляя их прямо в 19 век; мои адресаты по сей день не забыты и, откровенно сказать, я тоже не забыт ими, поскольку уже много десятилетий получаю ответы. Это рисунок. Человек, распятый в пространстве: распятый между двумя Демиургами — высшим и низшим, между Солнцем и Луною, между божественной сутью и животной природой внутри себя самого. Человек стоит, раскинув руки, и кричит. Кричит! Из уст его раздаётся первая буква Творца, переливающаяся всеми цветами радуги. Потом я сажусь рисовать, выбирая для этого плоские камни; женская голова, растущая из коня дуба, а вместо мозга — черный кот, умирающий с голоду. Я рисую много и неостановимо, ровно до того момента, пока не придёт новое письмо, где человек всё так же неизменен; человек, но не пространство, — оно–то меняется постоянно, принимая вид то бескрайнего поля, то деревянного креста. Оно всегда ограничивает, оно всегда конкретно, а вот человек не имеет иного имени, кроме имени Жертва. Он даже не знает меня, но всё–таки кричит в моё правое ухо, не считаясь с усталостью, медью в крови, желанием поглотить все звуки. Завтра придёт Калипсо, завтра не будет нового дня, лишь только лист календаря уступит место своему сыну, бросившись в пропасть мусорной корзины. Вместо мозгов у календарей — числа от 1 до 31, тяготеющие к двенадцати возвращениям, законно теряя некоторые из дней; календарям неведом инстинкт самосохранения, и этим они превосходят нас. Я — как следствие Дыхания — однажды разомкну уста, и тот же самый крик прорвётся сквозь вынужденную немоту, — так можно кричать только когда умираешь (нет, когда уже умер); почему есть ловушка для снов, но нет ловушки для бессонницы? Может быть, потому что существуют снотворные таблетки, и они ловят людей на их же глупости.
Я слышал голос своей следующей жертвы.
Я уже забыл, что значит быть неповторимым, ищущим трепетное «да» в складках твоего платья, я забыл, куда ведут дороги и когда они заканчиваются тупиками. Я вышел на улицу и не почувствовал жизни. Я умер и не обрёл иного слова, кроме несказанного. Радость моя неслась как секундная стрелка по лицу циферблата, в её завидной неостановимости было что–то животное, внушившее мне мысль о машинальном, — радость, бегущая так скоро, никогда не овевала бытия, и потому я был счастлив, как может быть счастлив только безумец, наступивший ногой на серп; грусть, возведённая в четвёртую степень; синие ирисы; спасибо.
Это был мой голос.
Мой.
К О Н Е Ц